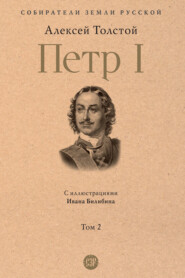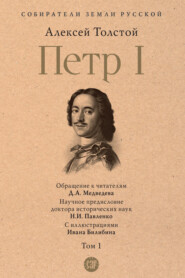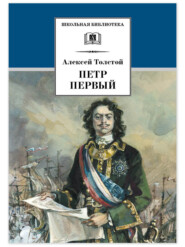По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петр Первый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Князь-кесарь, испив ковш квасу, помедлив несколько, поднимался, шел, скрипя половыми досками, в сени, ему подавали просторный суконный кафтан, посох, шапку. Когда его тень, видная сквозь мутноватые стекла крытого крыльца, медленно спускалась по лестнице, все люди, случившиеся поблизости на дворе, кидались кто куда. Он один шел через двор по дорожке, вымощенной кирпичом. Шея у него была толстая, и головой поворачивать было ему трудно, все-таки углом выпученного глаза он все замечал: кто куда побежал, куда спрятался, где какие мелкие непорядки. Все запоминал. Но дел у него было чрезмерно много больших, государских, и до мелочей часто и руки не добирались. Через железную калитку в заборе он переходил на соседний двор Преображенского приказа. Там в полутемных длинных переходах перед ним молча рвали с себя шапки дьяки и приказные, вытягивались – на караул – солдаты.
Дьяк Преображенского приказа Прохор Чичерин встречал его в дверях канцелярии и, когда князь-кесарь садился у стола под заплесневелым сводом, под окошком, сразу начинал говорить о делах по порядку: за вчерашний день привезено из Тулы изготовленных пушек медных четыре да столько же чугунных доброго литья. Посылать их тотчас и куда – под Нарву или под Юрьев? Да за вчерашний день окончательно одета первая рота новонабранного полка, только солдаты еще босые, башмаки без пряжек будут на той неделе, в Бурмистерской палате купцы сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут. Как быть? Пороха, фитилей, пуль в мешочках, кремней рассыпанных в кулях послано под Нарву по указу. Гранат ручных не удалось послать, затем, что кладовщик Ерошка Максимов другой день пьян, ключи от кладовой никому не отдает, хотели взять силой, – он во исступлении ума замахивался на людей сечкой – чем капусту рубят… Как быть? Много таких дел было сказано дьяком Чичериным, под конец он, ближе придвинувшись под свод к окошку, взял столбцы тайных дел (записи подьячих с допросов без рукоприкладства и с допросов под пытками) и начал читать их. Князь-кесарь, тяжело положив на стол руку, непонятно – внимал ли, дремал ли, хотя Чичерин хорошо знал, что самую суть он непременно услышит…
– «В брошенной баньке, где скрывался распоп Гришка, на дворе у царевен Екатерины Алексеевны и Марьи Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца, – читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя. – На тетради на первом листе написано: „Досмотр ко всякой мудрости”. Да на первом же листе ниже писано: „Во имя Отца и Сына и Святого Духа… Есть трава именем зелезека, растет на падях и палях, собой мала, по сторонам девять листочков, наверху три цвета – червлен, багров, синь, та трава вельми сильна, – рвать ее, когда молодой месяц, столочь, сварить и пить трижды, – узришь при себе водных и воздушных демонов… Скажи им заклятое слово „нсцдтчндси” – и желаемое исполнится…”
Князь-кесарь глубоко вздохнул, приподнял полуопустившиеся веки:
– Слово-то это повтори-ка явственно.
Чичерин, почесав лоб, сморщась, со злобой едва выговорил: нсцдтчндси… Взглянул на князя-кесаря, тот кивнул. Дьяк продолжал читать:
– «О князья, вельможи, о слезы и воздыхания! Что желаемое есть? Желаем укротить нынешнее время, ярость его, да настали бы опять будничные времена…»
– Вот, вот, вот! – Князь-кесарь пошевелился на стуле, в выпученных глазах его появилась и пропала насмешка, догадка. – Понятна трава зелезека. А что – распоп Гришка признал тетрадь?
– Гришка сегодня в третьем часу после пытки признал тетрадь. Купил-де ее на Кисловке у незнаемого человека за четыре копейки. А зачем прятал в баньке под половицей? – сказал, что по скудоумию.
– А ты спрашивал у него – как понимать: «Опять бы настали будничные времена»?
– Спрашивал. Дадено ему пять кнутов, – ответил: тетрадь-де купил для ради бумаги – просфоры на ней печь, а что в ней написано – не читал, не знает.
– Ах, вор, ах, вор! – Князь-кесарь медленно муслил палец, переворачивал потрепанные листы тетради. Кое-что прочитывал вполголоса: «Трава „вахария”, цвет рудо-желт, если человека смертно окормят – дай пить, скоро пронесет верхом и низом…» Полезная травка, – сказал князь-кесарь. И – далее – вел ногтем по строкам: – «В Кириллиной книге сказано: придет льстец и соблазнит. Знамения пришествия его: трава никоциана, сиречь табак, повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое: брадобритие…» Ну что ж, – князь-кесарь закрыл тетрадь, – пойдем, дьяк, поспрошаем его – кто же это желает укротить нынешнее время? Распоп человек прыткий и тертый, про эту тетрадь я давно знаю, он с ней пол-Москвы обегал.
Спускаясь по узкой, изъеденной сыростью кирпичной лестнице в подполье, в застенок, Чичерин, как всегда, проговорил сокрушенно:
– Из-под земли эта моча проступает, кирпич сгнил, то и гляди убьешься, надо бы новую лесенку скласть…
– Да, надо бы, – отвечал князь-кесарь.
Впереди со свечой шел подьячий-писец, так же, как и дьяк, одетый в иноземное платье, но сильно затертое, на шее висела медная чернильница, из полуоторванного кармана торчал сверток бумаги. Он поставил свечу на дубовый стол в низком подполье, где, как тени, кинулось несколько крыс по норам в углах.
– И крыс же нынче у нас развелось, – сказал дьяк, – все хочу попросить в аптеке мышьяку.
– Да, надо бы…
Два зверовидных мужика, нагибаясь под сводами, приволокли распопа Гришку, с закаченными глазами, с бороденкой, сбитой, как шерсть, – лицо у него было зеленоватое, с отвислой губой. Подлинно ли, что он уж и не мог владеть ногами? Поставленный под крюк с висящей веревкой, он мягко повалился, уткнулся, как неживой. Дьяк сказал тихо: «Допрашивали без вредительства членов, и ушел он на своих ногах…»
Князь-кесарь некоторое время глядел Гришке на плешь меж всклокоченных волос.
– Узнано, – заговорил он сонным голосом, – в позапрошлом году ты в Звенигороде у Ильи-пророка сорвал серебряные бармы с икон, да у Благовещенья взломал церковную кружку с деньгами, да там же из алтаря украл поповский тулуп и валенки. Вещи продал, деньги пропил, взят под стражу и от караула бежал в Москву, где по сей день скрывался по разным боярским дворам, а позже – у царевен на дворе в баньке… Признаешь? Отвечать будешь? Нет… Ну, ладно. Эти дела для тебя еще полбеды…
Князь-кесарь помолчал. Позади зверовидных мужиков неслышно появился кат – палач – благообразный, испитой, бледно-восковой, с большим ртом, краснеющим меж плоско прижатых усов и кудрявой бородки.
– Узнано, – опять заговорил князь-кесарь, – хаживал ты в Немецкую слободу к бабе-черноряске, Ульяне, передавал ей письма и деньги от некоторых особ… Которая баба Ульяна относила письма в Новодевичье к известной персоне… От ней брала письма же и посылки, и ты их относил к вышеупомянутым особам… Было это? Признаешь?
Дьяк перегнулся через стол, шепнул князю-кесарю, указывая глазами на Гришку:
– Насторожился, ей, ей, по ушам вижу…
– Не признаешь? Так… Упрямишься… А – напрасно… И нам с тобой лишние хлопоты, и тебе – лишние муки телесные… Ну, ладно… Теперь вот что мне расскажи… В чьи именно дома ты ходил? Кому именно ты читал из сей тетради про желание укротить нынешнее время, ярость его, и о желании вернуть буднишние времена?..
Князь-кесарь, будто просыпаясь, приподнял брови, лицо его вздулось. Палач мягко подошел к лежащему ниц Гришке, потрогал его, покачал головой…
– Князь Федор Юрьевич, нет, сегодня он говорить не станет. Зря только будем его беспокоить. С дыбы да пяти кнутов он окостенел… Надо отложить до завтра.
Князь-кесарь застучал ногтями по столу. Но Силантий, палач, был опытен, – если человек окостенел, его – хоть перешиби пополам – правды от него не добьешься. А дело было весьма важное: со взятием распопа Гришки князь-кесарь нападал на след – если не прямого заговора – во всяком случае, злобного ворчания и упрямства среди московских особ, все еще сожалеющих о боярских вольностях при царевне Софье, что по сей день томится в Новодевичьем под черным клобуком. Но – делать нечего – князь-кесарь поднялся и пошел наверх по гнилой лестнице. Дьяк Чичерин остался хлопотать около Гришки.
4
Утро было сырое, теплое, мглистое. В переулках пахло мокрыми заборами и дымками из печных труб. Лошадь шлепала по лужам. Гаврила слез с верха у ворот Преображенского приказа и долго не мог добиться караульного офицера.
«Куда же он, сатана, провалился?» – крикнул он усатому солдату, стоявшему у ворот. «А кто его знает, все время тут был, куда-то ушел…» – «Так – сбегай, найди его…» – «Никак не могу отлучиться…» – «Ну пусти меня за ворота…» – «Никого не велено пускать…» – «Так я сам пройду». – Гаврила толкнул его, чтобы шагнуть за калитку, солдат сказал: «А вот – отвори калитку, я тебя, по артикулу, штыком буду пороть…»
Тогда на шум вышел наконец караульный офицер, скучавший до этого в будке по ту сторону ворот, – конопатый, с маленьким лицом и никуда не смотревшими глазами. Гаврила кинулся к нему, объясняя, что привез из Питербурга почту и должен передать ее в собственные руки князю Федору Юрьевичу.
– Где я могу увидеть князя-кесаря? Он в приказе сейчас?
– Ничего не известно, – ответил караульный офицер, глядя на полосатого большого кота, брезгливо переходившего мокрую улицу. – Кот – с княжеского двора, – сказал он солдату, – а сколько крику было, что пропал, а он – вон он, паскуда…
Ворота вдруг завизжали на петлях, распахнулись и размашисто вылетела четверня – цугом – вороных в бирюзовой сбруе. Гаврила едва отскочил, сквозь окошко огромной облезлой, золоченой колымаги на низких колесах взглянул на него Ромодановский рачьими глазами. Гаврила поспешно влез на лошадь, чтобы догнать карету, караульный офицер схватился за узду, – черт его знает – то ли от природы был такой вредный человек, то ли действительно по уставу нельзя было догонять выезд князя-кесаря…
– Пусти! – бешено крикнул Гаврила, перехватил узду, ударил шпорами, вздернул коня, – офицер повис на узде и упал… «Караул! Лови вора!» – уже издалека услышал Гаврила, выскакивая на Лубянскую площадь.
Кареты он не догнал, плюнул с досады и через Неглинный мост повернул в Кремль, в Сибирский приказ.
Низенький, длинный, со ржавой крышей дом приказа, построенный еще при Борисе Годунове, стоял на обрыве, выше крепостной стены, задом к Москве-реке. В сенях и переходах толпились люди, сидели и лежали у стен на полу, из скрипучих дверей выбегали подьячие, в долгополых кафтанах с заплатанными локтями (от постоянного ерзанья ими по столу), с гусиными перьями за ухом, размахивая бумагами, сердито кричали на угрюмых сибиряков, приехавших за тысячи верст добиться правды на воеводу ли озорника-взяточника, какого не бывало от сотворения мира, или по разным льготам насчет рудных, золотых, пушных, рыбных промыслов. Бывалый человек, претерпев такую брань, прищуривался ласково, говорил подьячему: «Кормилец, милостивец, ай бы нам сойтись, потолковать душа в душу в обжорном ряду, что ли, или где укажешь…» Неопытный так и уходил, повесив голову, чтобы завтра и еще много дней, проедаясь на подворье, приходить сюда, ждать, надоедать…
Князь-кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать – можно ли к нему, протолкался к двери, кто-то его потянул за кафтан: «Куда, куда, нельзя!..» – Он отмахнулся локтем, вошел. Князь-кесарь сидел один в душной, низенькой палате с полуприкрытым ставнею окошком, вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой:
– А ты – смелый, Иван Артемича сынок! Ишь ты! Черная кость нынче сама двери отворяет!.. Чего тебе?
Гаврила передал почту. Сказал – что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Питербург всякого скобяного товара, – особенно гвоздей… Князь-кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и, далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами… Петр писал:
«Sir! Извещаю ваше величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело: как умных дураки обманули… У шведов перед очами гора гордости стояла, через которую не увидели нашего подлога… Об сем машкерадном бое, где было нами побито и взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии поручика Ягужинского, он скоро у вас будет… Что до посылки в Питербург лекарственных трав для аптеки – до сих пор сюда ни золотника не послано… О чем я многажды писал Андрею Виниусу, который каждый раз отподчивал меня московским тотчасом… О чем извольте его допросить: почему делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже… Птръ…»
Прочтя, князь-кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко вздохнул.
– Душно, – сказал он. – Жара, мгла… Дел много. А за день и половины не переделаешь… Помощники, ах, помощнички мои!.. Трудиться мало кто хочет, все норовят – скользь. Да ухватить побольше… А ты чего нарядился, парик надел?.. К царевне, что ли, едешь? Ее нет во дворце, в Измайловском она… Ты – увидишь ее – не забудь: на Петровке, в кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец, так хорошо говорит по-русски – все люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал. Его можно купить, ежели царевна пожелает… Ступай… По пути скажи дьяку Нестерову, чтоб послал за Андреем Виниусом, – привести его ко мне тотчас… На, целуй руку…
5
После полудня стало накрапывать. Анисья Толстая, страшась приуныния, придумала играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал.
Анне и Марфе – девам Меньшиковым – лишь бы играть во что-нибудь – развевая лентами, протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо, игра не веселила… Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках, высоко от пола, всегда горело солнце сквозь красные, желтые, синие стеклышки и блестела золоченая кожа на стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше стучал дождь. Она сказала Катерине:
– Не люблю Измайловского дворца, большой, пустой, чисто покойник… Пойдем куда-нибудь, сядем тихонечко.
Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз, в маленькую, тоже брошенную и забытую, спальню покойной матери, Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а здесь – хотя слабо – пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до последних дней любила восточные ароматы.
Дьяк Преображенского приказа Прохор Чичерин встречал его в дверях канцелярии и, когда князь-кесарь садился у стола под заплесневелым сводом, под окошком, сразу начинал говорить о делах по порядку: за вчерашний день привезено из Тулы изготовленных пушек медных четыре да столько же чугунных доброго литья. Посылать их тотчас и куда – под Нарву или под Юрьев? Да за вчерашний день окончательно одета первая рота новонабранного полка, только солдаты еще босые, башмаки без пряжек будут на той неделе, в Бурмистерской палате купцы сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут. Как быть? Пороха, фитилей, пуль в мешочках, кремней рассыпанных в кулях послано под Нарву по указу. Гранат ручных не удалось послать, затем, что кладовщик Ерошка Максимов другой день пьян, ключи от кладовой никому не отдает, хотели взять силой, – он во исступлении ума замахивался на людей сечкой – чем капусту рубят… Как быть? Много таких дел было сказано дьяком Чичериным, под конец он, ближе придвинувшись под свод к окошку, взял столбцы тайных дел (записи подьячих с допросов без рукоприкладства и с допросов под пытками) и начал читать их. Князь-кесарь, тяжело положив на стол руку, непонятно – внимал ли, дремал ли, хотя Чичерин хорошо знал, что самую суть он непременно услышит…
– «В брошенной баньке, где скрывался распоп Гришка, на дворе у царевен Екатерины Алексеевны и Марьи Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца, – читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя. – На тетради на первом листе написано: „Досмотр ко всякой мудрости”. Да на первом же листе ниже писано: „Во имя Отца и Сына и Святого Духа… Есть трава именем зелезека, растет на падях и палях, собой мала, по сторонам девять листочков, наверху три цвета – червлен, багров, синь, та трава вельми сильна, – рвать ее, когда молодой месяц, столочь, сварить и пить трижды, – узришь при себе водных и воздушных демонов… Скажи им заклятое слово „нсцдтчндси” – и желаемое исполнится…”
Князь-кесарь глубоко вздохнул, приподнял полуопустившиеся веки:
– Слово-то это повтори-ка явственно.
Чичерин, почесав лоб, сморщась, со злобой едва выговорил: нсцдтчндси… Взглянул на князя-кесаря, тот кивнул. Дьяк продолжал читать:
– «О князья, вельможи, о слезы и воздыхания! Что желаемое есть? Желаем укротить нынешнее время, ярость его, да настали бы опять будничные времена…»
– Вот, вот, вот! – Князь-кесарь пошевелился на стуле, в выпученных глазах его появилась и пропала насмешка, догадка. – Понятна трава зелезека. А что – распоп Гришка признал тетрадь?
– Гришка сегодня в третьем часу после пытки признал тетрадь. Купил-де ее на Кисловке у незнаемого человека за четыре копейки. А зачем прятал в баньке под половицей? – сказал, что по скудоумию.
– А ты спрашивал у него – как понимать: «Опять бы настали будничные времена»?
– Спрашивал. Дадено ему пять кнутов, – ответил: тетрадь-де купил для ради бумаги – просфоры на ней печь, а что в ней написано – не читал, не знает.
– Ах, вор, ах, вор! – Князь-кесарь медленно муслил палец, переворачивал потрепанные листы тетради. Кое-что прочитывал вполголоса: «Трава „вахария”, цвет рудо-желт, если человека смертно окормят – дай пить, скоро пронесет верхом и низом…» Полезная травка, – сказал князь-кесарь. И – далее – вел ногтем по строкам: – «В Кириллиной книге сказано: придет льстец и соблазнит. Знамения пришествия его: трава никоциана, сиречь табак, повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое: брадобритие…» Ну что ж, – князь-кесарь закрыл тетрадь, – пойдем, дьяк, поспрошаем его – кто же это желает укротить нынешнее время? Распоп человек прыткий и тертый, про эту тетрадь я давно знаю, он с ней пол-Москвы обегал.
Спускаясь по узкой, изъеденной сыростью кирпичной лестнице в подполье, в застенок, Чичерин, как всегда, проговорил сокрушенно:
– Из-под земли эта моча проступает, кирпич сгнил, то и гляди убьешься, надо бы новую лесенку скласть…
– Да, надо бы, – отвечал князь-кесарь.
Впереди со свечой шел подьячий-писец, так же, как и дьяк, одетый в иноземное платье, но сильно затертое, на шее висела медная чернильница, из полуоторванного кармана торчал сверток бумаги. Он поставил свечу на дубовый стол в низком подполье, где, как тени, кинулось несколько крыс по норам в углах.
– И крыс же нынче у нас развелось, – сказал дьяк, – все хочу попросить в аптеке мышьяку.
– Да, надо бы…
Два зверовидных мужика, нагибаясь под сводами, приволокли распопа Гришку, с закаченными глазами, с бороденкой, сбитой, как шерсть, – лицо у него было зеленоватое, с отвислой губой. Подлинно ли, что он уж и не мог владеть ногами? Поставленный под крюк с висящей веревкой, он мягко повалился, уткнулся, как неживой. Дьяк сказал тихо: «Допрашивали без вредительства членов, и ушел он на своих ногах…»
Князь-кесарь некоторое время глядел Гришке на плешь меж всклокоченных волос.
– Узнано, – заговорил он сонным голосом, – в позапрошлом году ты в Звенигороде у Ильи-пророка сорвал серебряные бармы с икон, да у Благовещенья взломал церковную кружку с деньгами, да там же из алтаря украл поповский тулуп и валенки. Вещи продал, деньги пропил, взят под стражу и от караула бежал в Москву, где по сей день скрывался по разным боярским дворам, а позже – у царевен на дворе в баньке… Признаешь? Отвечать будешь? Нет… Ну, ладно. Эти дела для тебя еще полбеды…
Князь-кесарь помолчал. Позади зверовидных мужиков неслышно появился кат – палач – благообразный, испитой, бледно-восковой, с большим ртом, краснеющим меж плоско прижатых усов и кудрявой бородки.
– Узнано, – опять заговорил князь-кесарь, – хаживал ты в Немецкую слободу к бабе-черноряске, Ульяне, передавал ей письма и деньги от некоторых особ… Которая баба Ульяна относила письма в Новодевичье к известной персоне… От ней брала письма же и посылки, и ты их относил к вышеупомянутым особам… Было это? Признаешь?
Дьяк перегнулся через стол, шепнул князю-кесарю, указывая глазами на Гришку:
– Насторожился, ей, ей, по ушам вижу…
– Не признаешь? Так… Упрямишься… А – напрасно… И нам с тобой лишние хлопоты, и тебе – лишние муки телесные… Ну, ладно… Теперь вот что мне расскажи… В чьи именно дома ты ходил? Кому именно ты читал из сей тетради про желание укротить нынешнее время, ярость его, и о желании вернуть буднишние времена?..
Князь-кесарь, будто просыпаясь, приподнял брови, лицо его вздулось. Палач мягко подошел к лежащему ниц Гришке, потрогал его, покачал головой…
– Князь Федор Юрьевич, нет, сегодня он говорить не станет. Зря только будем его беспокоить. С дыбы да пяти кнутов он окостенел… Надо отложить до завтра.
Князь-кесарь застучал ногтями по столу. Но Силантий, палач, был опытен, – если человек окостенел, его – хоть перешиби пополам – правды от него не добьешься. А дело было весьма важное: со взятием распопа Гришки князь-кесарь нападал на след – если не прямого заговора – во всяком случае, злобного ворчания и упрямства среди московских особ, все еще сожалеющих о боярских вольностях при царевне Софье, что по сей день томится в Новодевичьем под черным клобуком. Но – делать нечего – князь-кесарь поднялся и пошел наверх по гнилой лестнице. Дьяк Чичерин остался хлопотать около Гришки.
4
Утро было сырое, теплое, мглистое. В переулках пахло мокрыми заборами и дымками из печных труб. Лошадь шлепала по лужам. Гаврила слез с верха у ворот Преображенского приказа и долго не мог добиться караульного офицера.
«Куда же он, сатана, провалился?» – крикнул он усатому солдату, стоявшему у ворот. «А кто его знает, все время тут был, куда-то ушел…» – «Так – сбегай, найди его…» – «Никак не могу отлучиться…» – «Ну пусти меня за ворота…» – «Никого не велено пускать…» – «Так я сам пройду». – Гаврила толкнул его, чтобы шагнуть за калитку, солдат сказал: «А вот – отвори калитку, я тебя, по артикулу, штыком буду пороть…»
Тогда на шум вышел наконец караульный офицер, скучавший до этого в будке по ту сторону ворот, – конопатый, с маленьким лицом и никуда не смотревшими глазами. Гаврила кинулся к нему, объясняя, что привез из Питербурга почту и должен передать ее в собственные руки князю Федору Юрьевичу.
– Где я могу увидеть князя-кесаря? Он в приказе сейчас?
– Ничего не известно, – ответил караульный офицер, глядя на полосатого большого кота, брезгливо переходившего мокрую улицу. – Кот – с княжеского двора, – сказал он солдату, – а сколько крику было, что пропал, а он – вон он, паскуда…
Ворота вдруг завизжали на петлях, распахнулись и размашисто вылетела четверня – цугом – вороных в бирюзовой сбруе. Гаврила едва отскочил, сквозь окошко огромной облезлой, золоченой колымаги на низких колесах взглянул на него Ромодановский рачьими глазами. Гаврила поспешно влез на лошадь, чтобы догнать карету, караульный офицер схватился за узду, – черт его знает – то ли от природы был такой вредный человек, то ли действительно по уставу нельзя было догонять выезд князя-кесаря…
– Пусти! – бешено крикнул Гаврила, перехватил узду, ударил шпорами, вздернул коня, – офицер повис на узде и упал… «Караул! Лови вора!» – уже издалека услышал Гаврила, выскакивая на Лубянскую площадь.
Кареты он не догнал, плюнул с досады и через Неглинный мост повернул в Кремль, в Сибирский приказ.
Низенький, длинный, со ржавой крышей дом приказа, построенный еще при Борисе Годунове, стоял на обрыве, выше крепостной стены, задом к Москве-реке. В сенях и переходах толпились люди, сидели и лежали у стен на полу, из скрипучих дверей выбегали подьячие, в долгополых кафтанах с заплатанными локтями (от постоянного ерзанья ими по столу), с гусиными перьями за ухом, размахивая бумагами, сердито кричали на угрюмых сибиряков, приехавших за тысячи верст добиться правды на воеводу ли озорника-взяточника, какого не бывало от сотворения мира, или по разным льготам насчет рудных, золотых, пушных, рыбных промыслов. Бывалый человек, претерпев такую брань, прищуривался ласково, говорил подьячему: «Кормилец, милостивец, ай бы нам сойтись, потолковать душа в душу в обжорном ряду, что ли, или где укажешь…» Неопытный так и уходил, повесив голову, чтобы завтра и еще много дней, проедаясь на подворье, приходить сюда, ждать, надоедать…
Князь-кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать – можно ли к нему, протолкался к двери, кто-то его потянул за кафтан: «Куда, куда, нельзя!..» – Он отмахнулся локтем, вошел. Князь-кесарь сидел один в душной, низенькой палате с полуприкрытым ставнею окошком, вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой:
– А ты – смелый, Иван Артемича сынок! Ишь ты! Черная кость нынче сама двери отворяет!.. Чего тебе?
Гаврила передал почту. Сказал – что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Питербург всякого скобяного товара, – особенно гвоздей… Князь-кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и, далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами… Петр писал:
«Sir! Извещаю ваше величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело: как умных дураки обманули… У шведов перед очами гора гордости стояла, через которую не увидели нашего подлога… Об сем машкерадном бое, где было нами побито и взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии поручика Ягужинского, он скоро у вас будет… Что до посылки в Питербург лекарственных трав для аптеки – до сих пор сюда ни золотника не послано… О чем я многажды писал Андрею Виниусу, который каждый раз отподчивал меня московским тотчасом… О чем извольте его допросить: почему делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже… Птръ…»
Прочтя, князь-кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко вздохнул.
– Душно, – сказал он. – Жара, мгла… Дел много. А за день и половины не переделаешь… Помощники, ах, помощнички мои!.. Трудиться мало кто хочет, все норовят – скользь. Да ухватить побольше… А ты чего нарядился, парик надел?.. К царевне, что ли, едешь? Ее нет во дворце, в Измайловском она… Ты – увидишь ее – не забудь: на Петровке, в кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец, так хорошо говорит по-русски – все люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал. Его можно купить, ежели царевна пожелает… Ступай… По пути скажи дьяку Нестерову, чтоб послал за Андреем Виниусом, – привести его ко мне тотчас… На, целуй руку…
5
После полудня стало накрапывать. Анисья Толстая, страшась приуныния, придумала играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал.
Анне и Марфе – девам Меньшиковым – лишь бы играть во что-нибудь – развевая лентами, протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо, игра не веселила… Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках, высоко от пола, всегда горело солнце сквозь красные, желтые, синие стеклышки и блестела золоченая кожа на стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше стучал дождь. Она сказала Катерине:
– Не люблю Измайловского дворца, большой, пустой, чисто покойник… Пойдем куда-нибудь, сядем тихонечко.
Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз, в маленькую, тоже брошенную и забытую, спальню покойной матери, Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а здесь – хотя слабо – пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до последних дней любила восточные ароматы.