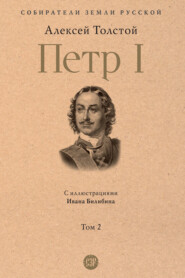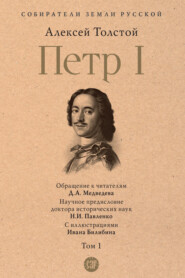По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наваждение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы, – спросил он, – в Киеве недолго задержитесь? Оттуда прямо домой?
– К жнитву надо быть домой, – отвечал Никанор.
– В Москву заходить не будете?
– Нет, в Москву нам заходить большой крюк.
– Ну, ну, – и полез Кочубей в шаровары, – вот, отец, отнесёшь в монастырь два рубля – жертва, а это тебе ефимок, а это товарищу твоему, – и подаёт мне семь алтын.
Мы благодарить стали, кланяться. Вошла Любовь, тоже с дарами: по куску нам польского полотна, да по два полотенца, да пирог большой на дорогу. Дары положила на стол. Мы опять благодарим. Она говорит:
– Переночуйте у нас, странные, у нас хат много. Завтра обедню отстоите, пойдёте.
А Кочубей всё трубку сосёт шибко и поглядывает на нас. Потом взял ковёр с лавки и прикрыл дары на столе. И нас отпустили.
Тот же Иван отвёл нас в пустую хату. Никанор сейчас же заснул, а я не могу. На дворе голоса слышны, смех, песни поют.
Поворочался я под армяком, – тоска, сердце стучит, – и вышел, будто по своему делу, из избы на волю. Ночь светлая; у конюшни в траве лежат парни. Один поднялся и побрёл, бегом побежал, – гляжу – за деревьями девичья рубашка белеется, он – туда, и сели в траву. А мне-то что же делать? Подошёл к парням, они спрашивают:
– Что, москаль, не спишь, или блохи заели? – и смеются.
Потоптался около них, побрёл к воротам; на лавке сидит казак и с ним жёнка, та, что нам ужинать собирала. Обернулись ко мне, зубы скалят. Обошёл кругом весь двор; где что зашуршит – так и вздрагиваю, дрожь пробирает. Что за напасть!
Дошёл я до церкви, сел на паперти на каменных ступенях и гляжу. Месяц высоко стоит над садом. Все кущи в росе, все кущи тёмные, пышные. На высоких тополях листы блестят. И тихо, так тихо – слышно, как на реке Семи ухают лягушки.
И во мне, в душе ли, или, прямо говоря, вот здесь, где дыхание, – музыка началась. Будто слышу я пение множества голосов, и слышу колокольный голос весёлый и частый, и хор то покрывает его, то отходит. Слушаю, и сладко мне, и слёзы душат.
И будто пение слышу я из храма. Обернулся – на двери висит большой замок. А что, если это ангелы, как Никанор мне сказывал, заутреню служат?
И так мне стало страшно, – сполз с паперти и побежал по саду. А сирень мокрыми кистями хлысть, хлысть по лицу!
Опамятовался только около дома. Стою, трясусь, смешно мне, и боязно оглянуться, и от радости зубы стучат. Раздвинул кусты, а за ними окошко, и в нём сидит женщина и смотрит на меня, в лунном свету вся белая, только брови темны, да глаза – как две тени. Узнал её – кочубеева дочь, Матрёна.
Она спрашивает тихим голосом:
– Кто это?
Я молчу.
– Подойди ближе.
Я пододвинулся.
– Хорошо ты давеча пел, монашек, наградила бы я тебя, да нечем; сама, как пленная, у батюшки живу.
Лицо у неё строгое, брови тёмные, монашеские, а губы, как у дитя. И всё её точно прядка волос щекочет – проводит пальцами по щеке.
– Ты зачем к нам в сад забрался? – она говорит. – Вот пожалуюсь батюшке – запорют тебя казаки плетями.
И сама усмехается. Я гляжу на её красоту, и в дыхании моём всё затихло: как ночь стало.
– Как тебя зовут? – она спрашивает.
– Трефилием.
– А в миру как звали?
– Тишкой.
– А не грех тебе по ночам с девками разговаривать? Ведь девка такого наскажет – потом на коленках не замолишь.
И опять засмеялась:
– Ушёл бы ты от греха, право. А то и тебе грех, и мне грешно. Кабы ты был монах старый. Уйдёшь или нет? – Тут она вздохнула. – Скажи, Тихон, зачем по ночам свет светит? Зачем спать не даёт? Скажи, большие нам будут муки, или всё здесь, на земле, простится? Подойди ближе. И я совсем уже рядом стою, чувствую, как она сидит горячая, усмехается. А глаза тёмные, мрачные, не на меня глядит… Вот грешная!.. Вот грех-то!.. И говорю ей:
– Отпусти. Я уйду.
– Монашек, – она говорит, кабы не бог, кто бы тебя привёл под моё окошко… А ты бежишь!..
Положила руку мне на плечо, и чувствую на затылке её пальцы. И клонюсь, пока лицо к её лицу не подошло… Губы её, вижу, дрогнули, раскрылись… Отвернулась она немного и говорит:
– Помоги мне. Спаси меня. Погибаю. Приведи мне коня. У коновязи всю ночь осёдланные кони стоят… Отвяжи двух, приведи к церкви и жди… Приведёшь?… Не сробеешь?…
Нагнулась быстро и губами тронула меня, как углём… Соскочила с подоконника и шепчет из тёмной горницы:
– Иди, иди… Торопись…
Тут взял меня такой озноб, такая радость… Ничего не понимаю, – одно: коней привести…
– Ладно, жди! – говорю, и побежал.
На дворе все спать полегли; месяц закатывается, виден над самой крышей; тихо, только за воротами сторож колотит в колотушку.
Я крадусь от дерева к дереву, вижу – коновязь, кони хрустят сеном. Только вышел на открытое место, один повёл глазом, обернул ко мне морду и заржал звонко, протяжно.
И я сел в траву, пуще всего оттого, что был как во сне, в наваждении. Крещусь, бормочу: «Да воскреснет бог…» И слов не слышу, одно чувствую – на шее пальцы Матрёны, точно в печь огненную тянет она меня.
Понемногу обошёлся, отпрукал коней, кинулся животом на одного, сел в седло, другого взял за повод и тронул рысью. А сзади как заржёт конь в другой раз, и собака завыла.
Я доскакал до сада, и только свернул на дорожку – навстречу бежит человек, раскрыл руки и крикнул:
– Трефилий!
Гляжу, Никанор. И сила во мне вся опустилась. Он подбегает, ухватил за ногу, тащит с седла:
– Слезай, вор! Слезай, погубитель? Убью заживо!
А на дворе уж голоса слышны, погоня, конский топот.