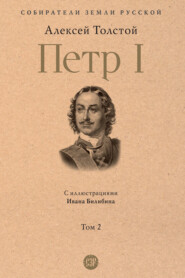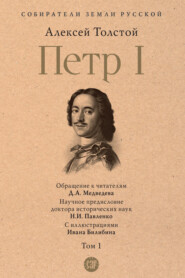По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Граф Калиостро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я обдумал и решил, – сегодня вечером я исполню ваше желание: я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой.
Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищёлкивая языком и посапывая.
Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтёр с него пыль тряпкой, поставил у стены, разостлал перед ним ковёр. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи, на окнах опущены занавесы. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи ни питья.
Алексей Алексеевич повиновался всему, чего от него требовали. Лёжа в полутёмной спальне, он чувствовал только, что голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принёс ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. В восемь, одетый в просторное и лёгкое платье, он вошёл вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.
X
– Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит.
Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с прыгающими бровями, из-под буклей парика текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону.
Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил её перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнёс в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принёс большую, тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув её в руках, сел на пол близ двери.
В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг.
– Повторяю, – говорил он, – вы должны напрячь всё воображение и представить эту особу, – он ткнул мелом в сторону портрета, – без покровов, то есть нагую… От силы вашего воображения будут зависеть все подробности её сложения… Я помню, в тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз просил меня материализировать мадам де Севиньяк, умершую от желудка… Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым соломою мешком… Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъярённое чучело обратно в портрет. Итак, вообразив, со всею тщательностью, сложение желаемой вами особы, вы представьте её затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была неодета и возбуждала удивление… Маргадон, – позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы, – поди и позови графиню. – Он отошёл шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака кабаллы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошёл в круг.
– Вы будете иметь совершенный образец моего искусства, – сказал он важно, – способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у неё такие же, как и у человека, рождённого от женщины. – Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались лёгкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза.
– Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям… Я начинаю, – повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошёл в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом окаменело.
За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн.
– Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю, – нараспев, медленно и всё усиливая голос, заговорил Калиостро. – О, духи воздуха, Сильфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается, как слово Эша… Делайте ваше дело…
Алексей Алексеевич глядел на озарённое свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повёрнутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо её, ещё так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-жёлтым, как болезнь. Но, чувствуя, что всё же нужно повиноваться, он перевёл глаза ниже, на обнажённые плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собой усилие, стал воображать её, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его.
Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебался, по комнате прошёл затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос:
– Духи земли, Гномусы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается, как слог Эл. Делайте ваше дело. – Он поднял стилет и опустил его, и, будто от подземного толчка, весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Калиостро продолжал:
– Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается, как звук Ра… Придите и делайте ваше дело… – При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдалённый шум будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица её начали становиться зыбкими, неуловимыми…
– Духи огня, Саламандры, – громовым уже голосом говорил Калиостро, – могущественные и своевольные, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается, как буква Иод. Духи огня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать своё дело… – Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. – Делайте ваше дело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения…
И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича.
Но она не успела окончить песни, – Алексей Алексеевич вскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы.
– Дайте мне руку, – проговорила она тонким, холодным и злым голосом. В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро.
– Дайте же мне руку, я освобожусь, – повторила голова Прасковьи Павловны.
– Руку ей, руку дайте, – воскликнул Калиостро.
Алексей Алексеевич, как во сне, подошёл к портрету. Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя, рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковёр.
Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полёт летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила:
– Удивляюсь… Спала я, что ли?… Что за цвет лица!.. И платье всё помято… И фасон чудной – жмёт в груди… Ах, что-то я не могу припомнить… Забыла… – Она поднесла пальцы к глазам. – Забыла, всё забыла… – Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд её тёмных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных дёсен мелкие, острые зубы, и взяла его под локоть.
– Вы так странно на меня смотрите. Я страшусь, – проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери. – Нам нужно объясниться.
XI
Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубою на поясницу и рассмеялся.
– Отменный получился кадавр, – проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблуках и уже без смеха стал глядеть на Марию. – Плачете? – Она поспешно отёрла слёзы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. – Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мёртвой и живой природой, не так ли? – Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо её было искажено пережитым страхом и омерзением. – А юноша ваш прекрасный предпочёл утешаться с мерзким кадавром, не с вами…
Мария ответила тихо и твёрдо:
– Вы ответите на страшном суде за чародейство.
Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью:
– Три года сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придёт конец моему терпению.
– Над любовью моей вы всё равно не властны, – поспешно ответила Мария, – не заставите вас полюбить.
– Нет, заставлю! – На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же налились кровью. – Я вас в пузырёк посажу, сударыня, в кармане буду носить.
– Всё равно, – повторила она, – власти над любовью нет у вас. Жива буду – другому отдам, не вам.
– На этот раз вы замолчите, – пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарычав, левой рукой ударил Маргадона в лицо, – арап зажмурился, – он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.
XII
Алексей Алексеевич и то, что было подобно женщине и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Её седой свет озарял всю широкую поляну. Отсвечивала кое-где паутина, уже протянутая пауками в густосиней траве. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения серебристым сиянием.
Алексей Алексеевич шёл молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными грудами рощи светлый шар луны, говорила не переставая…
– Ах, луна, луна, Алексис, вы бесчувственны к этим чарам.
Холодный её голосок сыпал словами, как стекляшечками, и невыносимым звуком всё время посвистывал шёлк её платья. От этих стеклянных слов и шёлкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжёлым, ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идёт то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее, жеманное существо, в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с большими тенями в глазных впадинах казалось ему столь же бесплотным, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с упрямством: – Насладись же, насладись ею, ощути… – Он не мог преодолеть в себе отвращения.
Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села.
– Алексис, – прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару, – Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать, сколь приятна женщине дерзость.
Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы:
– Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать этих упрёков.
– Упрёки? – она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшечками. – Упрёки!.. Но вы всё только руки жмёте, и то слабо. Хотя бы обняли меня.
Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правою рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левой взял её руки. Глубоко открытая её грудь, с чуть проступающими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к её лицу, стараясь уловить её прелесть.