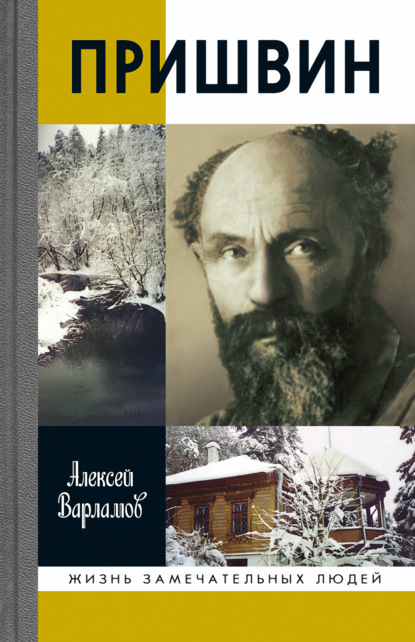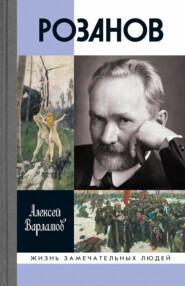По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пришвин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но в течение нескольких лет даже Ремизов отказывал ему в этом праве, и Пришвин-писатель начался для него значительно позже.
«В литературу Пришвин выступил в 1907 году: его первые книги – географически-учебного характера – очерки: «В стране непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908)[200 - Самое интересное, что в том же 1908 году А. Ф. Девриен издал еще одну, первую по времени написания и последнюю в этом издательстве книгу Пришвина «Картофель в полевой и огородной культуре», которую высоко оценили специалисты.]. Но как писатель Пришвин начинается в рассказе «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 году. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913–1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей»[201 - Воспоминания о Пришвине. С. 65.].
Это только в 1923 году в уже упоминавшейся книге «Кукха. Розановы письма», вспоминая из Берлина Россию, Ремизов думал прежде всего о Пришвине (и связывал-то его с Розановым!): «Из всех, ведь, писателей современников – теперь уж можно говорить о нас, как об истории – у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо – теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду – никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух – вот он какой, ваш ученик Пришвин!»[202 - Ремизов А. М. Указ. соч. С. 252.]
А в другой статье высказался и того определеннее: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России»[203 - Воспоминания о Пришвине. С. 66.].
Но до этого, очень трудного времени надо было еще дожить, а в ту пору как бы много общение с Ремизовым Пришвину ни дало, палата (палатка, как звал ее Розанов, бывший в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛе старейшим кавалером вместе с Гершензоном и Шестовым) Алексея Михайловича была только шагом к подлинному литературному бомонду.
Ремизовский дом, куда был вхож Пришвин, представлял собой литературный салон, пусть не в таких масштабах, как дом Мережковских («И Гиппиус, и Сераф П. – хотели быть госпожами, героинями в революционном движении, но это им не удавалось»[204 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 98.]). Любопытно сравнить, что писал об этом доме Пришвин и что – сам Ремизов.
«В дом Ремизова, как на свет лучины с мелей сползаются раки, – приходили от семей своих самые странные люди (обезьяньи князья), и здесь они попадали в ловушку и возвращались домой на свои мели с презрением в душе к своему домашнему быту (…)… И педерасты ходили сюда, п<отому> что культ женщины (не самки) входит в дело педерастии (Кузмин плакал от ласковых женск. слов Сер. Павл.)»[205 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 97–98.].
А вот что записал Ремизов: «У нас всегда бывали «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, очень понемногу-понемногу и пропадали.
На их место приходили другие – народ не переводился (…) Пришвин с Коноплянцевым»[206 - Ремизов А. М. Указ. соч. С. 254.].
И все же подлинный бомонд был учрежден Мережковскими, которых позднее, в 1927 году, Пришвин Ремизову противопоставлял. «Столбовую задачу Ремизова я бы теперь охарактеризовал как охрану русского литературного искусства от нарочито мистических религиозно-философских посягательств на него со стороны кружка Мережковского…»[207 - Воспоминания о Пришвине. С. 67.]
Однако в 1908 году именно туда – в стан к декадентам – лежал дальнейший творческий путь Михаила Пришвина.
«Между тем новая гроза нависла над моей свободой, распростившись органически с материалистически страдающей интеллигенцией, я сошелся с Мережковским – Розановым и всем этим кругом религиозно-философского общества. Под влиянием этих «идей» я поехал в Заволжье и написал книгу «Невидимый город» о сектантах. (…) В кружке нашем приняли мою книгу чрезвычайно благосклонно, и я слышал не раз, как маститые мистики сочувственно меня называли «ищущим». Под влиянием их я целую зиму провертелся в Петербурге среди пророков и богородиц хлыстовщины, написал (1 нрзб) религ. повесть «Саморок». И вдруг почувствовал, что опять погибаю в чужедумии среди засмысленных интеллигентов…»[208 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 158.]
Как и в случае с Розановым, здесь имеется некоторая, быть может, сознательная хронологическая путаница, забывчивость, а то и стремление сбить будущего Друга-читателя с толку.
Произошло все отнюдь «не вдруг». Пришвин стал членом Религиозно-философского общества в октябре 1908 года, путешествие же состоялось летом того года, а книга «У стен града невидимого. Светлое озеро» вышла в свет в 1909-м. Таким образом, не путешествие состоялось после знакомства, а знакомство – после путешествия.
Это существенно, и иначе не могло быть. Молодому литератору, который позднее сам себя не без иронии в «Охоте за счастьем» аттестовал как «типичного заумного русского интеллигента», непросто было завоевывать место под нещедрым и капризным серебряновековым литературным солнышком.
Трудно сказать, каким в точности был пришвинский план, когда он отправлялся к Светлояру, но, как следует из книги В. Д. Пришвиной «Путь к слову», автора которой трудно заподозрить в недоброжелательности по отношению к своему герою, толчком к вхождению в петербургские литературные круги послужило знакомство писателя со стариком-сектантом, который попросил его не больше не меньше, чем передать поклон Мережковскому, и эту возможность Пришвин не упустил.
«…вспомнил, что в Китеже вспоминали Мережковского, я пишу ему про это письмо, и он мне отвечает немедленно и назначает час», – вспоминал в черном 1919 году и сам Пришвин обстоятельства знакомства.
В раннем Дневнике описывается, как первая встреча произошла:
«1908 г. 7 окт. Вчера познакомился с Мережковским, Гиппиус и Философовым… Как только я сказал, что на Светлом озере их помнят, Мережковский вскочил:
– Подождите, я позову… – И привел Философова, высокого господина с аристократическим видом. Потом пришла Гиппиус… Я заметил ее пломбы, широкий рот, бледное с пятнами лицо…»
Именно ей – Зинаиде Гиппиус – через некоторое время он отдал рукопись своей написанной по следам путешествия к Китежу третьей книги «У стен града невидимого». Несмотря на чрезвычайно интересный замысел – показать сектантскую Русь, в художественном плане то была, по-видимому, самая неудачная из ранних пришвинских книга, что признавал и сам автор, усматривая в ней «некоторое манерничанье… и романтическую кокетливость стиля»[209 - Контекст-1974. М., 1975. С. 319.]. Но с точки зрения общественного интереса, громадной религиозной и апокалиптической напряженности, интереса к сектантству, она била в самое яблочко. А значит, и издателя можно было искать более серьезного, чем добрейший швейцарец Девриен, простодушно интересовавшийся у Пришвина, можно ли ему купить в «краю непуганых птиц» дачу, и, значит, открывался шанс переломить надменное общественное мнение на свой счет[210 - Правда, с изданием все оказалось не так просто. В первых номерах журнала «Русская мысль» за 1909 год удалось опубликовать несколько глав «Града», но летом этого же года Пришвин жаловался Ремизову, что не может найти издателя, и размышлял о том, стоит ли издавать книгу за свой счет, заняв для этой цели деньги у сестры Лидии.].
Увлечение сектантством, а особенно мистическим и прежде всего хлыстовством, было свойственно образованному и необразованному сословиям русского общества ничуть не меньше, чем марксизмом.
Секта хлыстов была одной из самых многочисленных в России. Хлыстовство возникло в восемнадцатом столетии и довольно быстро завоевало популярность в разных кругах русского общества. Хлысты учили, что Христос и Богородица могут приходить на Землю не один раз, воплощаясь в разных людях, и оттого иные из хлыстовских учителей называли себя христами – от искажения этого слова и пошло название самой секты. Хлысты объединялись в особые тайные общины, так называемые корабли, во главе которых стояли кормчие. На своих тайных сборах-радениях хлысты пели особые песни, впадали в молитвенный экстаз, призывая на себя сошествие Святого Духа, потом начинали скакать по горнице, истязать друг друга бичеванием, и, возможно, все это оканчивалось свальным грехом. Царское правительство и официальная Церковь преследовали хлыстов, но уничтожить эту ересь не смогли, и когда в начале двадцатого века вышел закон о свободе вероисповеданий, хлыстовство вышло из подполья. Оно проявляло себя в самых разных формах и вызывало большой интерес у интеллигенции.
Назовем лишь несколько хорошо известных фамилий людей, интересовавшихся сектантской проблематикой в России: Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, Н. Бердяев, А. Ремизов, С. Венгеров, Н. Минский, В. Розанов, А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, М. Горький, М. Кузмин, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, а потому любое достоверное документальное произведение на эту тему было обречено на успех. Пришвин к тому же был талантлив, имел литературный опыт и имя.
Зинаида Николаевна, с которой позднее сравнит Пришвин охтенскую богородицу Д. В. Смирнову («Вторая Гиппиус по уму»), рукопись прочла, с автором побеседовала и отозвалась по принципу: да-нет не говорить, черного-белого не называть:
«У вас много вкуса, но много модности… Поймите красоту Капитанской дочки, эллинской статуи и вы поймете, что Евангелие не брошюра… Вы оттого не принимаете Христа, что боитесь смысла»[211 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 37.].
Не отсюда ли проистекает любимое пришвинское определение интеллигенции – засмысленная?[212 - Замечательно, что к брошенной Гиппиус идее о «Капитанской дочке» Пришвин вернулся много лет спустя: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня теперь археология, а Петербург даже и официальное имя свое потерял; моя родина, непревзойденная в простой красоте, и что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней доброте и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина "Капитанская дочка"» (7.9.1933. Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 64).]
Едва ли г-жа Гиппиус, она же критик Антон Крайний, кривила душой. Ощущение маскарадности, некоторой условности первых пришвинских книг при всем их художественном обаянии шло в его творчестве по нарастающей именно по мере приближения и вхождения в Религиозно-философское общество. Это можно почувствовать, если сравнить «В краю непуганых птиц» и «У стен града невидимого».
В первой книге, когда автору для знакомства со староверами предлагают прикинуться ищущим, он отказывается: «Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христолюбцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия мне была не по душе».
В «Светлом озере» повторяется та же ситуация, но отношение к маскировке другое:
«Чтобы сойтись с ними, я перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения – искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие, для меня лишь этнографические ценности.
Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. Старик черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.
– Откулешний? Зачем?
– Ищу правильную веру».
Пришвин вряд ли сильно лукавил – поиск правильной веры в православной (то есть уже имеющей правильную веру) стране стал к началу двадцатого века явлением повседневным, на чем сходились и отшатнувшийся народ, и беспокойная интеллигенция. Пришвин не был исключением: и сектантство, и старообрядчество, которые он объединял в одно («Хлыстовство – это другой конец староверства. Это – неумирающая душа протопопа Аввакума, теперь уже глубоко равнодушная к своей казенной плоти, бродит по нашей стране и вселяется безразлично в какую плоть»[213 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 591.]), казались ему более глубоким и более народным явлением, нежели традиционное, «официальное» православие.
Здесь и таится основное отличие пришвинских книг от произведений Максимова и Арсеньева, которые не ходили на заседания сомнительных обществ и уж тем более на сектантские радения. Или Мельникова-Печерского, чиновника Министерства внутренних дел, крупнейшего специалиста по сектантству и расколу в прошлом веке, ни на йоту не отступившего от православия. А незадолго до Мережковского и Пришвина в этих краях побывал Короленко и написал о них повесть «Светлояр». Но Короленко остался для сектантов чужим, он природу описывал, а Мережковский стал своим («наш, он с нами притчами говорил»).
И Пришвин (во всяком случае его автобиографический герой-повествователь) в этом невольном выборе двух традиций примкнул к Мережковскому, который не то радовался, не то печалился (или, может быть, слегка кокетничал) из-за того, что только сектанты его и понимают. Вот и пришвинский разговор с немоляками: «– Верно, – говорю я старику, – мы (именно так. – А. В.[214 - Ср. у Бердяева: «Мережковский никогда не говорит от я, он всегда говорит от мы» (Бердяев. Новое христианство. Цит. по: Эткинд А. Хлыст. С. 207).]) тоже думаем, что по нынешним временам церковь не может быть видимой. Есть, – рассказываю я, – один большой, большой человек, который тоже за вас, тоже за такую церковь, граф…
Рассказываю учение. Слушает старик меня долго, внимательно. И волнует меня это посредничество (выделено мной. – А. В.) между двумя белыми стариками, там и тут».
Итак, хотя и не пришла Гиппиус от Пришвина и его книги в восторг, в Религиозно-философское общество он был зачислен, а в 1909 году сделал «доклад» на заседании другого знаменитого общества – Императорского географического – о своей поездке к Светлояру, поразив почтенную публику тем, что, не сказав ни слова и не обратившись к собравшимся с приличествующими словами, вдруг лег животом на эстраду и пополз, громко повторяя вслух:
«Ползут, все ползут… тут, там, везде. Мужчины, женщины – все ползут…»[215 - Путь к слову. С. 149.]
Публика на этом чтении состояла не только из шокированных ученых мужей, о которых вспоминает мемуарист. По свидетельству другого очевидца этого театрального ползания В. Д. Бонч-Бруевича, автора знаменитой серии книг, посвященных изучению русского сектантства и будущего управделами ленинского Кремля, именно тогда произошло знакомство Бонча и укрепились связи Пришвина с главой петербургской хлыстовской секты «Начало века» – П. М. Легкобытовым, человеком, потрясшим молодого писателя, ибо вдруг оказалось, что за народной жизнью можно и не ездить за тридевять земель, а найти ее прямо здесь, на прямых улицах и проспектах Северной столицы.
«Он, – записал восхищенный Пришвин о Легкобытове, – для меня больше народ, чем, может быть, весь народ»[216 - Пришвин о Розанове. С. 164.].
Так интерес к сектантству в глухих углах России отозвался сектантством столичным, и Пришвин, легко и быстро с Легкобытовым познакомившийся и даже по-своему сдружившийся, получил новую порцию для наблюдений и размышлений о странной схожести двух сект – интеллигентской во главе с Д. С. Мережковским и простонародной во главе с П. М. Легкобытовым, хотя два вождя друг друга недолюбливали: Павел Михайлович звал Дмитрия Сергеевича «шалуном», а Дмитрий Сергеевич Павла Михайловича – «антихристом». И, надо признать, оба были правы (ср. также у Розанова в его «Апокалипсисе»: «Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает»[217 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 580.]), и в пору великого братания интеллигенции и сектантской части народа почти по-ленински же завершал свое наблюдение над странным союзом петербургской элиты и хлыстов-немоляков: «Мы вышли на улицу: воплощение, искупление, папироски, женщины, похожие на актрис, эти священные поцелуи в лоб… Секта… И как это далеко от народа…»[218 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 33–36.]
Насколько глубоко был информирован Пришвин о том, что происходило в доме у Мережковских, и понимал ли он сам, до какой степени был недалек от истины, определяя круг Мережковского как религиозную общину, секту, сказать довольно трудно. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус были людьми осторожными и преданными конспирологии ничуть не меньше, чем охтенская богородица Дарья Васильевна Смирнова, в заборе у которой не было видно калитки. И хотя живо распространявшиеся в декадентской среде слухи о религиозных поисках и увлечениях знаменитой литературной четы не могли до него не дойти, все же вряд ли Пришвин знал Главное, как торжественно именовали свои обретения на религиозном пути супруги Мережковские (у которых Пришвин «учился пониманию религии русским народом»).
Вот что писала об этих эзотерических находках Зинаида Гиппиус:
«В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне неожиданно пришел Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал:
– Нет, нам нужна новая Церковь.
Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови.
Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких ко времени.
И было у нас два разговора: один с Дмитрием Васильевичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.
«В литературу Пришвин выступил в 1907 году: его первые книги – географически-учебного характера – очерки: «В стране непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908)[200 - Самое интересное, что в том же 1908 году А. Ф. Девриен издал еще одну, первую по времени написания и последнюю в этом издательстве книгу Пришвина «Картофель в полевой и огородной культуре», которую высоко оценили специалисты.]. Но как писатель Пришвин начинается в рассказе «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 году. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913–1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей»[201 - Воспоминания о Пришвине. С. 65.].
Это только в 1923 году в уже упоминавшейся книге «Кукха. Розановы письма», вспоминая из Берлина Россию, Ремизов думал прежде всего о Пришвине (и связывал-то его с Розановым!): «Из всех, ведь, писателей современников – теперь уж можно говорить о нас, как об истории – у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо – теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду – никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух – вот он какой, ваш ученик Пришвин!»[202 - Ремизов А. М. Указ. соч. С. 252.]
А в другой статье высказался и того определеннее: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России»[203 - Воспоминания о Пришвине. С. 66.].
Но до этого, очень трудного времени надо было еще дожить, а в ту пору как бы много общение с Ремизовым Пришвину ни дало, палата (палатка, как звал ее Розанов, бывший в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛе старейшим кавалером вместе с Гершензоном и Шестовым) Алексея Михайловича была только шагом к подлинному литературному бомонду.
Ремизовский дом, куда был вхож Пришвин, представлял собой литературный салон, пусть не в таких масштабах, как дом Мережковских («И Гиппиус, и Сераф П. – хотели быть госпожами, героинями в революционном движении, но это им не удавалось»[204 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 98.]). Любопытно сравнить, что писал об этом доме Пришвин и что – сам Ремизов.
«В дом Ремизова, как на свет лучины с мелей сползаются раки, – приходили от семей своих самые странные люди (обезьяньи князья), и здесь они попадали в ловушку и возвращались домой на свои мели с презрением в душе к своему домашнему быту (…)… И педерасты ходили сюда, п<отому> что культ женщины (не самки) входит в дело педерастии (Кузмин плакал от ласковых женск. слов Сер. Павл.)»[205 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 97–98.].
А вот что записал Ремизов: «У нас всегда бывали «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, очень понемногу-понемногу и пропадали.
На их место приходили другие – народ не переводился (…) Пришвин с Коноплянцевым»[206 - Ремизов А. М. Указ. соч. С. 254.].
И все же подлинный бомонд был учрежден Мережковскими, которых позднее, в 1927 году, Пришвин Ремизову противопоставлял. «Столбовую задачу Ремизова я бы теперь охарактеризовал как охрану русского литературного искусства от нарочито мистических религиозно-философских посягательств на него со стороны кружка Мережковского…»[207 - Воспоминания о Пришвине. С. 67.]
Однако в 1908 году именно туда – в стан к декадентам – лежал дальнейший творческий путь Михаила Пришвина.
«Между тем новая гроза нависла над моей свободой, распростившись органически с материалистически страдающей интеллигенцией, я сошелся с Мережковским – Розановым и всем этим кругом религиозно-философского общества. Под влиянием этих «идей» я поехал в Заволжье и написал книгу «Невидимый город» о сектантах. (…) В кружке нашем приняли мою книгу чрезвычайно благосклонно, и я слышал не раз, как маститые мистики сочувственно меня называли «ищущим». Под влиянием их я целую зиму провертелся в Петербурге среди пророков и богородиц хлыстовщины, написал (1 нрзб) религ. повесть «Саморок». И вдруг почувствовал, что опять погибаю в чужедумии среди засмысленных интеллигентов…»[208 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 158.]
Как и в случае с Розановым, здесь имеется некоторая, быть может, сознательная хронологическая путаница, забывчивость, а то и стремление сбить будущего Друга-читателя с толку.
Произошло все отнюдь «не вдруг». Пришвин стал членом Религиозно-философского общества в октябре 1908 года, путешествие же состоялось летом того года, а книга «У стен града невидимого. Светлое озеро» вышла в свет в 1909-м. Таким образом, не путешествие состоялось после знакомства, а знакомство – после путешествия.
Это существенно, и иначе не могло быть. Молодому литератору, который позднее сам себя не без иронии в «Охоте за счастьем» аттестовал как «типичного заумного русского интеллигента», непросто было завоевывать место под нещедрым и капризным серебряновековым литературным солнышком.
Трудно сказать, каким в точности был пришвинский план, когда он отправлялся к Светлояру, но, как следует из книги В. Д. Пришвиной «Путь к слову», автора которой трудно заподозрить в недоброжелательности по отношению к своему герою, толчком к вхождению в петербургские литературные круги послужило знакомство писателя со стариком-сектантом, который попросил его не больше не меньше, чем передать поклон Мережковскому, и эту возможность Пришвин не упустил.
«…вспомнил, что в Китеже вспоминали Мережковского, я пишу ему про это письмо, и он мне отвечает немедленно и назначает час», – вспоминал в черном 1919 году и сам Пришвин обстоятельства знакомства.
В раннем Дневнике описывается, как первая встреча произошла:
«1908 г. 7 окт. Вчера познакомился с Мережковским, Гиппиус и Философовым… Как только я сказал, что на Светлом озере их помнят, Мережковский вскочил:
– Подождите, я позову… – И привел Философова, высокого господина с аристократическим видом. Потом пришла Гиппиус… Я заметил ее пломбы, широкий рот, бледное с пятнами лицо…»
Именно ей – Зинаиде Гиппиус – через некоторое время он отдал рукопись своей написанной по следам путешествия к Китежу третьей книги «У стен града невидимого». Несмотря на чрезвычайно интересный замысел – показать сектантскую Русь, в художественном плане то была, по-видимому, самая неудачная из ранних пришвинских книга, что признавал и сам автор, усматривая в ней «некоторое манерничанье… и романтическую кокетливость стиля»[209 - Контекст-1974. М., 1975. С. 319.]. Но с точки зрения общественного интереса, громадной религиозной и апокалиптической напряженности, интереса к сектантству, она била в самое яблочко. А значит, и издателя можно было искать более серьезного, чем добрейший швейцарец Девриен, простодушно интересовавшийся у Пришвина, можно ли ему купить в «краю непуганых птиц» дачу, и, значит, открывался шанс переломить надменное общественное мнение на свой счет[210 - Правда, с изданием все оказалось не так просто. В первых номерах журнала «Русская мысль» за 1909 год удалось опубликовать несколько глав «Града», но летом этого же года Пришвин жаловался Ремизову, что не может найти издателя, и размышлял о том, стоит ли издавать книгу за свой счет, заняв для этой цели деньги у сестры Лидии.].
Увлечение сектантством, а особенно мистическим и прежде всего хлыстовством, было свойственно образованному и необразованному сословиям русского общества ничуть не меньше, чем марксизмом.
Секта хлыстов была одной из самых многочисленных в России. Хлыстовство возникло в восемнадцатом столетии и довольно быстро завоевало популярность в разных кругах русского общества. Хлысты учили, что Христос и Богородица могут приходить на Землю не один раз, воплощаясь в разных людях, и оттого иные из хлыстовских учителей называли себя христами – от искажения этого слова и пошло название самой секты. Хлысты объединялись в особые тайные общины, так называемые корабли, во главе которых стояли кормчие. На своих тайных сборах-радениях хлысты пели особые песни, впадали в молитвенный экстаз, призывая на себя сошествие Святого Духа, потом начинали скакать по горнице, истязать друг друга бичеванием, и, возможно, все это оканчивалось свальным грехом. Царское правительство и официальная Церковь преследовали хлыстов, но уничтожить эту ересь не смогли, и когда в начале двадцатого века вышел закон о свободе вероисповеданий, хлыстовство вышло из подполья. Оно проявляло себя в самых разных формах и вызывало большой интерес у интеллигенции.
Назовем лишь несколько хорошо известных фамилий людей, интересовавшихся сектантской проблематикой в России: Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, Н. Бердяев, А. Ремизов, С. Венгеров, Н. Минский, В. Розанов, А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, М. Горький, М. Кузмин, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, а потому любое достоверное документальное произведение на эту тему было обречено на успех. Пришвин к тому же был талантлив, имел литературный опыт и имя.
Зинаида Николаевна, с которой позднее сравнит Пришвин охтенскую богородицу Д. В. Смирнову («Вторая Гиппиус по уму»), рукопись прочла, с автором побеседовала и отозвалась по принципу: да-нет не говорить, черного-белого не называть:
«У вас много вкуса, но много модности… Поймите красоту Капитанской дочки, эллинской статуи и вы поймете, что Евангелие не брошюра… Вы оттого не принимаете Христа, что боитесь смысла»[211 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 37.].
Не отсюда ли проистекает любимое пришвинское определение интеллигенции – засмысленная?[212 - Замечательно, что к брошенной Гиппиус идее о «Капитанской дочке» Пришвин вернулся много лет спустя: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня теперь археология, а Петербург даже и официальное имя свое потерял; моя родина, непревзойденная в простой красоте, и что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней доброте и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина "Капитанская дочка"» (7.9.1933. Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 64).]
Едва ли г-жа Гиппиус, она же критик Антон Крайний, кривила душой. Ощущение маскарадности, некоторой условности первых пришвинских книг при всем их художественном обаянии шло в его творчестве по нарастающей именно по мере приближения и вхождения в Религиозно-философское общество. Это можно почувствовать, если сравнить «В краю непуганых птиц» и «У стен града невидимого».
В первой книге, когда автору для знакомства со староверами предлагают прикинуться ищущим, он отказывается: «Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христолюбцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия мне была не по душе».
В «Светлом озере» повторяется та же ситуация, но отношение к маскировке другое:
«Чтобы сойтись с ними, я перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения – искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие, для меня лишь этнографические ценности.
Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. Старик черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.
– Откулешний? Зачем?
– Ищу правильную веру».
Пришвин вряд ли сильно лукавил – поиск правильной веры в православной (то есть уже имеющей правильную веру) стране стал к началу двадцатого века явлением повседневным, на чем сходились и отшатнувшийся народ, и беспокойная интеллигенция. Пришвин не был исключением: и сектантство, и старообрядчество, которые он объединял в одно («Хлыстовство – это другой конец староверства. Это – неумирающая душа протопопа Аввакума, теперь уже глубоко равнодушная к своей казенной плоти, бродит по нашей стране и вселяется безразлично в какую плоть»[213 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 591.]), казались ему более глубоким и более народным явлением, нежели традиционное, «официальное» православие.
Здесь и таится основное отличие пришвинских книг от произведений Максимова и Арсеньева, которые не ходили на заседания сомнительных обществ и уж тем более на сектантские радения. Или Мельникова-Печерского, чиновника Министерства внутренних дел, крупнейшего специалиста по сектантству и расколу в прошлом веке, ни на йоту не отступившего от православия. А незадолго до Мережковского и Пришвина в этих краях побывал Короленко и написал о них повесть «Светлояр». Но Короленко остался для сектантов чужим, он природу описывал, а Мережковский стал своим («наш, он с нами притчами говорил»).
И Пришвин (во всяком случае его автобиографический герой-повествователь) в этом невольном выборе двух традиций примкнул к Мережковскому, который не то радовался, не то печалился (или, может быть, слегка кокетничал) из-за того, что только сектанты его и понимают. Вот и пришвинский разговор с немоляками: «– Верно, – говорю я старику, – мы (именно так. – А. В.[214 - Ср. у Бердяева: «Мережковский никогда не говорит от я, он всегда говорит от мы» (Бердяев. Новое христианство. Цит. по: Эткинд А. Хлыст. С. 207).]) тоже думаем, что по нынешним временам церковь не может быть видимой. Есть, – рассказываю я, – один большой, большой человек, который тоже за вас, тоже за такую церковь, граф…
Рассказываю учение. Слушает старик меня долго, внимательно. И волнует меня это посредничество (выделено мной. – А. В.) между двумя белыми стариками, там и тут».
Итак, хотя и не пришла Гиппиус от Пришвина и его книги в восторг, в Религиозно-философское общество он был зачислен, а в 1909 году сделал «доклад» на заседании другого знаменитого общества – Императорского географического – о своей поездке к Светлояру, поразив почтенную публику тем, что, не сказав ни слова и не обратившись к собравшимся с приличествующими словами, вдруг лег животом на эстраду и пополз, громко повторяя вслух:
«Ползут, все ползут… тут, там, везде. Мужчины, женщины – все ползут…»[215 - Путь к слову. С. 149.]
Публика на этом чтении состояла не только из шокированных ученых мужей, о которых вспоминает мемуарист. По свидетельству другого очевидца этого театрального ползания В. Д. Бонч-Бруевича, автора знаменитой серии книг, посвященных изучению русского сектантства и будущего управделами ленинского Кремля, именно тогда произошло знакомство Бонча и укрепились связи Пришвина с главой петербургской хлыстовской секты «Начало века» – П. М. Легкобытовым, человеком, потрясшим молодого писателя, ибо вдруг оказалось, что за народной жизнью можно и не ездить за тридевять земель, а найти ее прямо здесь, на прямых улицах и проспектах Северной столицы.
«Он, – записал восхищенный Пришвин о Легкобытове, – для меня больше народ, чем, может быть, весь народ»[216 - Пришвин о Розанове. С. 164.].
Так интерес к сектантству в глухих углах России отозвался сектантством столичным, и Пришвин, легко и быстро с Легкобытовым познакомившийся и даже по-своему сдружившийся, получил новую порцию для наблюдений и размышлений о странной схожести двух сект – интеллигентской во главе с Д. С. Мережковским и простонародной во главе с П. М. Легкобытовым, хотя два вождя друг друга недолюбливали: Павел Михайлович звал Дмитрия Сергеевича «шалуном», а Дмитрий Сергеевич Павла Михайловича – «антихристом». И, надо признать, оба были правы (ср. также у Розанова в его «Апокалипсисе»: «Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает»[217 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 580.]), и в пору великого братания интеллигенции и сектантской части народа почти по-ленински же завершал свое наблюдение над странным союзом петербургской элиты и хлыстов-немоляков: «Мы вышли на улицу: воплощение, искупление, папироски, женщины, похожие на актрис, эти священные поцелуи в лоб… Секта… И как это далеко от народа…»[218 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 33–36.]
Насколько глубоко был информирован Пришвин о том, что происходило в доме у Мережковских, и понимал ли он сам, до какой степени был недалек от истины, определяя круг Мережковского как религиозную общину, секту, сказать довольно трудно. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус были людьми осторожными и преданными конспирологии ничуть не меньше, чем охтенская богородица Дарья Васильевна Смирнова, в заборе у которой не было видно калитки. И хотя живо распространявшиеся в декадентской среде слухи о религиозных поисках и увлечениях знаменитой литературной четы не могли до него не дойти, все же вряд ли Пришвин знал Главное, как торжественно именовали свои обретения на религиозном пути супруги Мережковские (у которых Пришвин «учился пониманию религии русским народом»).
Вот что писала об этих эзотерических находках Зинаида Гиппиус:
«В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне неожиданно пришел Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал:
– Нет, нам нужна новая Церковь.
Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови.
Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких ко времени.
И было у нас два разговора: один с Дмитрием Васильевичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.