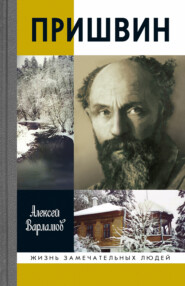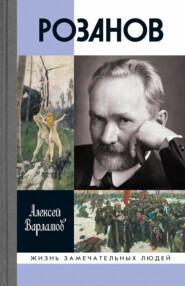По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ева и Мясоедов
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Часть первая
1
Первый раз младенец шевельнулся в животе матери на исходе пятого месяца своей жизни. Его крохотные мягкие ручки и ножки уже давно задевали гибкую стенку матки, но прежде их движения были слишком слабыми, и женщина их не ощущала. Теперь же она почувствовала легкое прикосновение, вздрогнула и прислушалась. Он толкнулся снова, и если бы кто-нибудь увидел в эту минуту ее лицо, то, будь это даже человек очень холодный либо ожесточенный, он бы наверняка многое простил всем несовершенствам и несправедливостям земной жизни. Но кроме большой лохматой собаки видеть ее было некому: муж уехал в лес, и она была одна в просторной, по-осеннему прохладной квартире, где все отличалось когда-то крепостью, добротностью и порядком, а теперь медленно приходило в запустение.
Женщине было тридцать пять лет, это была ее первая беременность, и возраст, некрепкое здоровье и хрупкое телосложение сильно ее беспокоили. Она добросовестно и вовремя обошла всех положенных врачей, и хотя ее предупреждали, что беременность будет сложной и, возможно, она ее не доносит, никто поначалу не говорил ничего плохого.
Давали обычные в таких случаях советы, но все равно последние месяцы женщина жила в неуверенности и тревоге, со страхом прислушиваясь к тому, что происходит в глубине ее тела.
От этой тревоги и неопределенности она никому, ни мужу, ни матери, ни ближайшим подругам, ничего не говорила про свое положение, а хранила и носила в себе эту тайну, опасаясь сглаза, несчастья, несвоевременных поздравлений, любопытства и удивления.
Она была замужем двенадцать лет, и давно все родные и знакомые, прежде шутливо намекавшие на потомство, но постепенно замолчавшие, были уверены, что она никогда не родит. Своим тактичным молчанием они уверили в том же и ее, и когда то, чего она так ждала и отчаялась дождаться, внезапно свершилось, ее охватил трепет. Она долго боялась и не разрешала себе поверить окончательно, пока в угрюмом, всегда избегаемом ею учреждении с нелепым названием «женская консультация» ей не подтвердили: беременна, предположительно восемь недель, будете оставлять? – холодно, даже неприязненно; но когда она их торопливо перебила, конечно, оставлять, обошлись приветливее, с непривычной для этого места заботливостью и велели через месяц приходить ставиться на учет.
Все это показалось ей тогда странным и необъяснимым, тем более что в последние годы они редко бывали с мужем близки. Их брак, заключенный когда-то не столько по любви, сколько вследствие наваждения, давно перешел в привычку, и былая страсть превратилась в заботу друг о друге, а потом и эта забота угасла. Почему так случилось и можно ли было этого избежать, она не знала, но то, что у нее не было ребенка, не просто ее печалило, а обессмысливало саму ее жизнь. Она никогда не говорила на эту тему с мужем и хотя допускала, что он тоже страдает, вся вина ложилась на нее, или она незаслуженно ее на себя брала, если только можно говорить о вине в подобных случаях. Впрочем, в глубине души она имела свое объяснение, почему так долго не могла забеременеть: от нее слишком ждали этого ребенка – его родители, он, ее родители – и в минуты близости она никогда не могла расслабиться и отвлечься от этой настойчивой мысли. Так что со временем даже супружеские отношения потеряли для нее всю прелесть и превратились в скучную утомительную обязанность, которую она под всяческими предлогами избегала.
Наверное, она была плохая жена своему мужу, но ни он, ни его жизнь интересны ей не были. Совместное проживание казалось чем-то вынужденным, и сколько она ни пыталась убедить себя в том, что в мире миллионы бездетных семей и сотни тысяч из них счастливы, а если и несчастны, то совсем по другим причинам, к ней эти рассуждения не имели никакого отношения.
Муж никогда не высказывал недовольства, он много и увлеченно работал, на выходные и праздники часто уезжал в лес и возвращался оттуда свежий и отдохнувший. Он был по-своему к ней внимателен, но подспудно в ней жило убеждение, что рано или поздно она останется одна. Она была к этому готова и ничуть не удивилась бы, если бы однажды он сказал, что уходит. Она полагала даже, что если он этого и не делает, то лишь потому, что ему мешает дурно понимаемая порядочность, но все это заставляло ее, умную, спокойную женщину, становиться подозрительной, мелочной, прислушиваться к его телефонным разговорам, напрягаться, когда он где-то задерживался, и барахтаться в отвратительной житейской мути.
Это чувство, равно как и мысль, что он ей изменяет, казалось настолько унизительным и их самих недостойным, что иногда она всерьез задумывалась о том, чтобы уйти первой и освободить этого человека, которого она теперь если не любила, то все равно уважала.
Она была готова сделать это сама, потому что сейчас это было легче, чем через несколько лет, когда она станет зависимее и слабее. Но в то лето, которое она выбрала для разрыва, и подоспели неприятные признаки – сонливость, усталость, тошнота, что случалось с нею и раньше и что, обманываясь, она часто принимала за беременность, а потом жестоко разочаровывалась. И эта истинная беременность вторглась в жизнь женщины, заставив ее позабыть обо всех своих подозрениях, невысказанных упреках и намерениях.
То, что испытала она в те летние месяцы, вернее всего следовало назвать ужасом перед собственным, но точно чужим, стремительно меняющимся телом и еще более изменившейся психикой. Она сама себя не узнавала и не понимала: ей часто хотелось плакать и сделалось невыразимо жалко себя. Никогда она не чувствовала себя такой беззащитной, уязвимой, одинокой и никому не нужной, и никогда окружающий мир не казался ей столь враждебным и жестоким. Она боялась подолгу оставаться дома одна, боялась выходить на улицу, боялась куда-нибудь ехать. Все время ей мерещилось: что-то случится с трамваем, загорится поезд в метро, взорвется подложенная террористами бомба, нападет в темноте убийца или маньяк, и, ничего не говоря о своих страхах мужу, она инстинктивно к нему тянулась, хотя в последние годы он только раздражал ее молчаливостью.
Должно быть, от внимательного взгляда все эти вещи едва ли ускользнули бы, однако муж был слишком занят собою, чтобы обращать внимание на подобные причуды. И, сталкиваясь с его отчужденными глазами, она замыкалась и таила все в себе. Она жила словно в скорлупке, лелея и оберегая свое тело, пронося его как драгоценный сосуд, и даже баночки с мочой для анализа казались ей чем-то очень значительным, ибо имели непосредственное отношение к происходящему с младенцем.
Так прошло, словно в забытьи, лето, не жаркое в тот год, но душное и сырое, а потом наступила осень, и ей стало легче. Она не испытывала больше приливов дурноты, не падала в обморок и как будто успокоилась и затихла. В глубине ее тела жил маленький ребенок, жил с нею всегда – когда она гуляла, спала, ходила на работу, и хотя ей по-прежнему казалось, что весь мир ополчился на нее, теперь, после того как дитя зашевелилось, она почувствовала себя не такой одинокой.
Женщина подошла к окну и отодвинула штору. Сильный ветер срывал с деревьев мокрые, светло-желтые, с ржавыми крапинками листья, листья падали в лужи, по лужам барабанил дождь, все было в лохмотьях – и небо, и земля, и люди с развевающимися полами плащей, торопливо проходившие по улице, наклонив головы и с трудом удерживая зонты.
А рожать ей только в феврале. Впереди еще вся осень и больше половины зимы: скользкие тротуары, снежные заносы, ранние сумерки и долгие глухие ночи. Она и страшилась и торопила время. Ее живот был пока не заметен, но скрывать свое положение удастся еще недолго. Она с тоской подумала о соседях, о любопытствующих бабках возле подъезда, о своих сослуживцах и родне, о новых перешептываниях, толках и преувеличенной заботе со стороны людей, которые были ей несимпатичны.
Дождь за окном не кончался, женщина не спеша оделась, позвала собаку и вышла из дому. Ей не слишком хотелось гулять в такую погоду, но она побрела вдоль канала, мимо шлюза, где уходили вверх в Волгу и вниз в Оку последние баржи. Ветер рвал мокнувшее на веревках белье, ходил по палубе одетый в непромокаемый плащ матрос в меховой шапке, равнодушно поглядывая по сторонам, и так же равнодушно и лениво смотрел через залитое дождем стекло в рубке капитан, гадая, сколько их продержат в этом шлюзе на северо-западной окраине Москвы.
2
Мужчина сбился с дороги, когда до деревни оставалось не более трех километров. Он решил сократить расстояние, пошел напрямик через лес и полчаса спустя понял, что заплутал. Давно должна была показаться деревня, а лес делался сырее и неприятнее, на смену елям и соснам пришел низкий ольховник, продираться через который было неловко и нелегко. Местность эта была расположена далеко на север от Москвы, здесь шел уже не дождь, а снег, случались крепкие утренники, лужи не успевали за день оттаять, и очень странно выглядели по обочинам заброшенных лесных дорог застывшие мерзлые сыроежки и рыжики.
Шел седьмой час, приближались сумерки, и мужчина пожалел, что не взял в этот раз собаку. Леса эти он знал недостаточно хорошо, и ничего другого, как ночевать здесь, ему не оставалось.
Присев на поваленное дерево, заросшее упругими опятами, он пересчитал оставшиеся в пачке сигареты – единственное, чем в отсутствие еды мог скрасить себе ночь. Их было шесть штук – четыре целые и две сломанные. Он взял сломанную, закурил, но она еле тлела. От земли, от деревьев, от неба тянуло стужей, сгущалась темнота, и ему сделалось жутковато. Даже топора, чтобы развести приличный костер, у него не было. Он с тоскою оглядел хмурое, студеное небо и уходившие к нему верхушки худых и гибких деревьев, взвалил рюкзак и решил, что будет идти, пока хоть что-то видно. Ветки хлестали его по лицу, ногами он задевал поваленные стволы и торчавшие в разные стороны сучья, несколько раз падал, порвал сапог, но упорство его было вознаграждено.
Полчаса спустя в плотных сумерках за редкими деревьями блеснула вода, и он увидел лесное озерцо. Окруженное топким берегом и кривыми маленькими соснами, оно выглядело довольно зловеще, хотя необыкновенно красиво. Он никогда не бывал здесь прежде, но по рассказам местных знал, что где-то на берегу есть избушка, и, рискуя в темноте свернуть шею, пошел вдоль воды, пока не уперся в бревенчатый сруб.
В первый момент он даже отказался поверить в свое везение. В избушке то ли кто-то жил, то ли постоянно сюда наведывался, но, посветив спичкой, он увидел на столе керосиновую лампу, банку с чаем, кружки, консервы, дрова, пилу, топор и рыболовные снасти. «Не хватает только водки», – подумал он радостно, но водка, пожалуй, и не требовалась.
Минут десять он сидел без движения, наслаждаясь покоем и запахом жилья, выкурил сигарету, а потом затопил печку, принес воды, начистил и поставил вариться картошку. Теперь спешить было некуда, он делал все по своему обыкновению аккуратно, получая от каждого из этих простых действий то неизъяснимое, особое удовольствие, какое способен ощутить в лесу лишь горожанин. В десятом часу вечера, когда в избушке стало совсем тепло, он поужинал и, сидя у огня, покуривая крепкую «Астру» и попивая чай из озерной воды, погрузился в сонное, неторопливое течение своих мыслей.
Он думал о том, что еще недавно, всего несколько лет назад, он бы не смог почувствовать всю прелесть этой избушки и этого леса, его ощущения не были бы такими полными и глубокими, потому что он был слишком честолюбив, мучился от сознания своего несовершенства, к чему-то стремился, – теперь же, слава Богу, все это ушло. Быть может, его нынешнюю покойную и размеренную жизнь нельзя было назвать громким словом «счастье». Это было скорее довольство, понятие, заклейменное как обывательское, но, в сущности, безобидное и никому не причиняющее зла. Теперь все то, что он считал прежде целью каждого уважающего себя человека – дело жизни, признание, заслуженный успех, – потеряло былую привлекательность и в цене оказались совсем иные вещи. Наверное, это было чем-то вроде преждевременного старения, но он, мечтавший о невероятно интересной, захватывающей жизни, полной поездок, шума и встреч, он, желавший прославить свое имя и гордившийся собою, презиравший тех, кто разменивался на мелочи, довольствовался тем, что ходил в тихий академический институт, откуда разбежалась половина народу, не рассчитывал более ни на какую карьеру, ни на то, что его позовут за границу. Лучшими своими днями считал те, когда дважды в году, в мае и сентябре, ездил в глухую деревушку на границе Архангельской и Вологодской областей к скуповатой старухе с диковинным именем Текуза, которая за батон колбасы и два килограмма карамели сдавала ему комнату в громадной избе и весьма гордилась своим образованным непьющим постояльцем. При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником, в его отношении к природе не было ничего материального и корыстного. Он просто любил лес, любил по нему ходить, медленно и тихо, чтобы не вспугнуть раньше времени лесную птицу или зверя, слушать и вбирать в себя его запахи и звуки, и если и собирал корзину ягод или грибов, то делал это в охотку, не придавая этим дарам никакого значения. Местные жители его не понимали и считали за чудака, которому можно простить бесполезную трату времени лишь потому, что он горожанин, чужак, – а он был счастлив тем, что за целый день не встречал не только человека, но даже следов чьего-либо присутствия.
Лишь здесь ему было по-настоящему хорошо. Порою он думал, что пройдет еще несколько лет – и он переселится в эту деревню или в такую избушку насовсем, чтобы забыть о жизни, похоронившей его лучшие и худшие устремления, обижавшей его невезением, непониманием, черствостью, жизни, в сущности, не сложившейся по его ли вине или потому, что так вышло и жизнь не складывается у девяти десятых, только редко кто в этом сознается. Друзья, которых он растерял, потому что друзьям завидовал больше всех, и чем ближе был ему человек, тем больше раздражали его успехи. Те немногие женщины, с которыми он ненадолго сходился, но быстро остывал, чувствуя, что им надо тепла, а ему самому было холодно; жена, его совсем не понимавшая, чужая и равнодушная женщина, единственное достоинство которой заключалось в том, что она не мешала ему жить, как он хочет. А ведь если бы кто-нибудь сказал ему десять лет назад, что все так скучно и заурядно сложится, он бы этому человеку никогда не поверил. Он слишком высоко себя ставил и ценил, чтобы так быстро сдаться и опустить руки, а теперь и сам не знал, к лучшему или худшему то, что с ним произошло. Но в любом случае его судьба не самая печальная, по крайней мере, он свободен, здоров и у него еще будет достаточно времени и сил, чтобы насладиться лесными дорогами, остожьями, ручьями и не считать свою жизнь напрасной.
Дрова в печи догорали, и нужно было точно угадать момент, когда закрыть трубу, чтобы не выпустить лишнее тепло и не угореть. Это была достаточно тонкая вещь, и когда ему случалось топить печь, он иногда ошибался. Но теперь ошибиться не хотелось: ничто не должно было испортить этот вечер. Дрова еще переливались красным и желтым жаром, дрожали, рассыпались на угольки и подергивались налетом золы. Он отсел от печки и глядел, как отражаются огоньки в маленьком, затянутом паутинкой окошке, выходившем на озеро. Интересно, кто срубил и хранил в порядке эту избу? Как она уцелела, не была разграблена и сожжена? Мало ли людей шляется нынче по лесам даже в этих глухих местах. Но, так или иначе, он был благодарен неведомому человеку, не просто избавившему его от необходимости ночевать в промозглом лесу, но подарившему ощущение счастья.
Мужчина закрыл печь, вышел из избушки и подошел по деревянным мосткам к озеру. Теперь определить его величину было невозможно, но, сколько он помнил, оно было совсем маленькое. Такие озера обычно бывают очень глубокими, и он с волнением подумал о непуганых громадных рыбинах, которые медленно шевелят жабрами и где-то спят в ямах, изредка поднимаясь на поверхность, и во всем своем великолепии выбрасываются из воды. После жарко натопленной избушки холод был приятным, и он долго стоял на берегу, разглядывая то темную воду, то небо, где слегка прояснило и через лохматые облака проглядывали скуповатые редкие звезды. Он уже сильно замерз, но уходить было жалко, и он стоял и стоял на этом мостике, точно желая унести с собой ощущение темноты, смешанной с запахом озера и леса. Вдруг охватила его печальная и ясная мысль, что никогда больше такой ночи и такого пронзительного чувства благодарности миру и жизни за то, что они есть, у него не будет. Он не мог объяснить себе точно, отчего так подумал и что помешает ему прийти сюда снова, но от мысли, что он уедет, а озеро и изба останутся, ему сделалось тоскливо, как тяжелобольному человеку, в покойный и ясный день разглядывающему небо через запыленное больничное окошко.
Он вернулся в избу и в этом печальном настроении лег спать на грубые нары, подстелив под себя замасленную телогрейку. Спал он долго, беспокойно ворочался: он все-таки угорел слегка, а под утро замерз, и всю ночь его мучили сны, точно он куда-то едет по разбитой, некрасивой дороге на телеге с мерзлым картофелем, прицепленной к трактору, и не знает, куда и сколько еще ехать.
Когда он проснулся, погода переменилась. Нежное осеннее солнце освещало озерцо, и оно казалось не угрюмым, как накануне, а веселеньким и домашним, словно аквариум. Мужчина позавтракал и в знак благодарности оставил хозяину лесной избы складной нож.
По небольшому ручью, вытекавшему из озера, он спустился к реке, на которой стояла деревня, и пошел вдоль берега. Дорога была красива, на деревьях и на траве блестела паутина, шелестели под ногами листья, и в обнаженности леса было что-то музейное. Когда ему случалось подниматься на поросшие соснами гряды, открывались бесконечные темные дали, и казалось, что отсюда можно увидеть полунощное море. Он шел неслышно и неторопливо, и лицо у него было загадочным и вороватым, как у счастливого любовника.
Но когда несколько дней спустя он вернулся в свой заводской район возле водохранилища, у него возникло странное ощущение, что эта поездка в лес, самая удачная из всех, была дана ему как роздых перед чем-то очень тяжелым, с чем ему неминуемо предстоит столкнуться, и он не мог отделаться от смутной тревоги, затенявшей его радость.
– С тобой все в порядке? – спросил он жену, открыв скрипнувшую дверь в спальню.
Она ничего не ответила, но его взгляд, не равнодушный и отчужденный, как обычно, тронул ее.
– Что-нибудь случилось?
– Случилось, – волнуясь, неожиданно для себя самой произнесла она.
– Что?
– Я жду ребенка.
– Какого ребенка?
Она как-то виновато-довольно улыбнулась, как улыбалась только в первые годы их общей жизни, и показала руками на живот.
Однако загорелое, обветренное лицо мужа выразило не радость, а растерянность.
– И что ты решила? – спросил он осторожно, и она не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда догадалась, то лицо ее потемнело, она остро пожалела о своих словах и подумала, что никогда ему этого вопроса не простит.
3
Младенец привык к организму матери не сразу. Первые недели, когда женщина еще не была уверена в своей беременности, между нею и крохотным зародышем шла яростная борьба. Ее оплодотворенная после стольких пустых лет Бог знает какая по счету яйцеклетка вызвала целую бурю, и все ее существо начало сопротивляться посторонней жизни. Будь женщина на десяток лет моложе или случись это не первый раз, сопротивление не было бы таким упорным. Но, лелея мысль о дитяти, мешая тревогу и страх с нежностью и любовью, она и помыслить не могла, насколько близок был зародыш к гибели. Однако от своих ли родителей, от природы или по воле Бога он унаследовал отчаянную цепкость и, несмотря на лихорадку первых месяцев, сумел прицепиться к стенке матки и крепко за нее держался.
Это был младенец мужского пола, обещавший стать здоровым и крепким мужчиной. Он изнурял мать, но сумел взять от нее самое нужное, он был жаден, эгоистичен, жизнестоек, у него были свои ощущения и эмоции – он делал все то, что следовало ему делать, и развивался, как развиваются миллионы человеческих детенышей, кому удалось избежать преждевременной гибели или внутриутробного убийства.
Большей частью он спал и во сне рос, но, отделенный от внешнего мира непроницаемой оболочкой, частично воспринимал происходящее за пределами материнского живота. Он любил, когда мать гуляет, любил мелодичные плавные звуки, но плохо переносил, когда она нервничала, боялась или съедала что-нибудь острое. Он был весь в ее власти и целиком от нее зависел во всех мелочах, между ним теперешним и тем, кем ему предстояло стать, лежало громадное расстояние, несоразмерное с самой человеческой жизнью, и преодолеть его было еще сложнее, чем прожить жизнь.
Подобно тому как в спокойствии ясного дня облачко на горизонте может означать приближение ненастья, в организме женщины исподволь накапливалось и развивалось неблагополучие. Оно было пока незаметным, его не могла почувствовать ни сама женщина, ни определить опытные врачи или умные приборы, но младенец забеспокоился и принялся посылать матери сигналы, выплескивавшиеся в мутных снах.
Эти сны были поначалу мимолетны, и, просыпаясь, она их не помнила, лишь чувствовала себя после ночи разбитой. Но однажды ее разбудило особенно пронзительное сновидение. Была лунная ночь, комнату освещал зыбкий неприятный свет, ей чудился привезенный мужем запах леса, костра, грибов, болота и лесных ягод – запах, который она так любила прежде, но теперь раздражавший ее, как почти все запахи.
Несколько минут она лежала не двигаясь, вытянув руки вдоль затекшего, онемевшего тела, и ждала, не шевельнется ли маленький. Но, утомленный, он заснул, и она опять почувствовала себя одиноко. Сон не шел: женщина с трудом повернулась на бок и поглядела в окно. Там, за деревьями с поредевшей листвой, медленно и бесшумно двигалась самоходная баржа. Она остановилась в шлюзе и стала подниматься, вырастая до размеров неимоверных.
1
Первый раз младенец шевельнулся в животе матери на исходе пятого месяца своей жизни. Его крохотные мягкие ручки и ножки уже давно задевали гибкую стенку матки, но прежде их движения были слишком слабыми, и женщина их не ощущала. Теперь же она почувствовала легкое прикосновение, вздрогнула и прислушалась. Он толкнулся снова, и если бы кто-нибудь увидел в эту минуту ее лицо, то, будь это даже человек очень холодный либо ожесточенный, он бы наверняка многое простил всем несовершенствам и несправедливостям земной жизни. Но кроме большой лохматой собаки видеть ее было некому: муж уехал в лес, и она была одна в просторной, по-осеннему прохладной квартире, где все отличалось когда-то крепостью, добротностью и порядком, а теперь медленно приходило в запустение.
Женщине было тридцать пять лет, это была ее первая беременность, и возраст, некрепкое здоровье и хрупкое телосложение сильно ее беспокоили. Она добросовестно и вовремя обошла всех положенных врачей, и хотя ее предупреждали, что беременность будет сложной и, возможно, она ее не доносит, никто поначалу не говорил ничего плохого.
Давали обычные в таких случаях советы, но все равно последние месяцы женщина жила в неуверенности и тревоге, со страхом прислушиваясь к тому, что происходит в глубине ее тела.
От этой тревоги и неопределенности она никому, ни мужу, ни матери, ни ближайшим подругам, ничего не говорила про свое положение, а хранила и носила в себе эту тайну, опасаясь сглаза, несчастья, несвоевременных поздравлений, любопытства и удивления.
Она была замужем двенадцать лет, и давно все родные и знакомые, прежде шутливо намекавшие на потомство, но постепенно замолчавшие, были уверены, что она никогда не родит. Своим тактичным молчанием они уверили в том же и ее, и когда то, чего она так ждала и отчаялась дождаться, внезапно свершилось, ее охватил трепет. Она долго боялась и не разрешала себе поверить окончательно, пока в угрюмом, всегда избегаемом ею учреждении с нелепым названием «женская консультация» ей не подтвердили: беременна, предположительно восемь недель, будете оставлять? – холодно, даже неприязненно; но когда она их торопливо перебила, конечно, оставлять, обошлись приветливее, с непривычной для этого места заботливостью и велели через месяц приходить ставиться на учет.
Все это показалось ей тогда странным и необъяснимым, тем более что в последние годы они редко бывали с мужем близки. Их брак, заключенный когда-то не столько по любви, сколько вследствие наваждения, давно перешел в привычку, и былая страсть превратилась в заботу друг о друге, а потом и эта забота угасла. Почему так случилось и можно ли было этого избежать, она не знала, но то, что у нее не было ребенка, не просто ее печалило, а обессмысливало саму ее жизнь. Она никогда не говорила на эту тему с мужем и хотя допускала, что он тоже страдает, вся вина ложилась на нее, или она незаслуженно ее на себя брала, если только можно говорить о вине в подобных случаях. Впрочем, в глубине души она имела свое объяснение, почему так долго не могла забеременеть: от нее слишком ждали этого ребенка – его родители, он, ее родители – и в минуты близости она никогда не могла расслабиться и отвлечься от этой настойчивой мысли. Так что со временем даже супружеские отношения потеряли для нее всю прелесть и превратились в скучную утомительную обязанность, которую она под всяческими предлогами избегала.
Наверное, она была плохая жена своему мужу, но ни он, ни его жизнь интересны ей не были. Совместное проживание казалось чем-то вынужденным, и сколько она ни пыталась убедить себя в том, что в мире миллионы бездетных семей и сотни тысяч из них счастливы, а если и несчастны, то совсем по другим причинам, к ней эти рассуждения не имели никакого отношения.
Муж никогда не высказывал недовольства, он много и увлеченно работал, на выходные и праздники часто уезжал в лес и возвращался оттуда свежий и отдохнувший. Он был по-своему к ней внимателен, но подспудно в ней жило убеждение, что рано или поздно она останется одна. Она была к этому готова и ничуть не удивилась бы, если бы однажды он сказал, что уходит. Она полагала даже, что если он этого и не делает, то лишь потому, что ему мешает дурно понимаемая порядочность, но все это заставляло ее, умную, спокойную женщину, становиться подозрительной, мелочной, прислушиваться к его телефонным разговорам, напрягаться, когда он где-то задерживался, и барахтаться в отвратительной житейской мути.
Это чувство, равно как и мысль, что он ей изменяет, казалось настолько унизительным и их самих недостойным, что иногда она всерьез задумывалась о том, чтобы уйти первой и освободить этого человека, которого она теперь если не любила, то все равно уважала.
Она была готова сделать это сама, потому что сейчас это было легче, чем через несколько лет, когда она станет зависимее и слабее. Но в то лето, которое она выбрала для разрыва, и подоспели неприятные признаки – сонливость, усталость, тошнота, что случалось с нею и раньше и что, обманываясь, она часто принимала за беременность, а потом жестоко разочаровывалась. И эта истинная беременность вторглась в жизнь женщины, заставив ее позабыть обо всех своих подозрениях, невысказанных упреках и намерениях.
То, что испытала она в те летние месяцы, вернее всего следовало назвать ужасом перед собственным, но точно чужим, стремительно меняющимся телом и еще более изменившейся психикой. Она сама себя не узнавала и не понимала: ей часто хотелось плакать и сделалось невыразимо жалко себя. Никогда она не чувствовала себя такой беззащитной, уязвимой, одинокой и никому не нужной, и никогда окружающий мир не казался ей столь враждебным и жестоким. Она боялась подолгу оставаться дома одна, боялась выходить на улицу, боялась куда-нибудь ехать. Все время ей мерещилось: что-то случится с трамваем, загорится поезд в метро, взорвется подложенная террористами бомба, нападет в темноте убийца или маньяк, и, ничего не говоря о своих страхах мужу, она инстинктивно к нему тянулась, хотя в последние годы он только раздражал ее молчаливостью.
Должно быть, от внимательного взгляда все эти вещи едва ли ускользнули бы, однако муж был слишком занят собою, чтобы обращать внимание на подобные причуды. И, сталкиваясь с его отчужденными глазами, она замыкалась и таила все в себе. Она жила словно в скорлупке, лелея и оберегая свое тело, пронося его как драгоценный сосуд, и даже баночки с мочой для анализа казались ей чем-то очень значительным, ибо имели непосредственное отношение к происходящему с младенцем.
Так прошло, словно в забытьи, лето, не жаркое в тот год, но душное и сырое, а потом наступила осень, и ей стало легче. Она не испытывала больше приливов дурноты, не падала в обморок и как будто успокоилась и затихла. В глубине ее тела жил маленький ребенок, жил с нею всегда – когда она гуляла, спала, ходила на работу, и хотя ей по-прежнему казалось, что весь мир ополчился на нее, теперь, после того как дитя зашевелилось, она почувствовала себя не такой одинокой.
Женщина подошла к окну и отодвинула штору. Сильный ветер срывал с деревьев мокрые, светло-желтые, с ржавыми крапинками листья, листья падали в лужи, по лужам барабанил дождь, все было в лохмотьях – и небо, и земля, и люди с развевающимися полами плащей, торопливо проходившие по улице, наклонив головы и с трудом удерживая зонты.
А рожать ей только в феврале. Впереди еще вся осень и больше половины зимы: скользкие тротуары, снежные заносы, ранние сумерки и долгие глухие ночи. Она и страшилась и торопила время. Ее живот был пока не заметен, но скрывать свое положение удастся еще недолго. Она с тоской подумала о соседях, о любопытствующих бабках возле подъезда, о своих сослуживцах и родне, о новых перешептываниях, толках и преувеличенной заботе со стороны людей, которые были ей несимпатичны.
Дождь за окном не кончался, женщина не спеша оделась, позвала собаку и вышла из дому. Ей не слишком хотелось гулять в такую погоду, но она побрела вдоль канала, мимо шлюза, где уходили вверх в Волгу и вниз в Оку последние баржи. Ветер рвал мокнувшее на веревках белье, ходил по палубе одетый в непромокаемый плащ матрос в меховой шапке, равнодушно поглядывая по сторонам, и так же равнодушно и лениво смотрел через залитое дождем стекло в рубке капитан, гадая, сколько их продержат в этом шлюзе на северо-западной окраине Москвы.
2
Мужчина сбился с дороги, когда до деревни оставалось не более трех километров. Он решил сократить расстояние, пошел напрямик через лес и полчаса спустя понял, что заплутал. Давно должна была показаться деревня, а лес делался сырее и неприятнее, на смену елям и соснам пришел низкий ольховник, продираться через который было неловко и нелегко. Местность эта была расположена далеко на север от Москвы, здесь шел уже не дождь, а снег, случались крепкие утренники, лужи не успевали за день оттаять, и очень странно выглядели по обочинам заброшенных лесных дорог застывшие мерзлые сыроежки и рыжики.
Шел седьмой час, приближались сумерки, и мужчина пожалел, что не взял в этот раз собаку. Леса эти он знал недостаточно хорошо, и ничего другого, как ночевать здесь, ему не оставалось.
Присев на поваленное дерево, заросшее упругими опятами, он пересчитал оставшиеся в пачке сигареты – единственное, чем в отсутствие еды мог скрасить себе ночь. Их было шесть штук – четыре целые и две сломанные. Он взял сломанную, закурил, но она еле тлела. От земли, от деревьев, от неба тянуло стужей, сгущалась темнота, и ему сделалось жутковато. Даже топора, чтобы развести приличный костер, у него не было. Он с тоскою оглядел хмурое, студеное небо и уходившие к нему верхушки худых и гибких деревьев, взвалил рюкзак и решил, что будет идти, пока хоть что-то видно. Ветки хлестали его по лицу, ногами он задевал поваленные стволы и торчавшие в разные стороны сучья, несколько раз падал, порвал сапог, но упорство его было вознаграждено.
Полчаса спустя в плотных сумерках за редкими деревьями блеснула вода, и он увидел лесное озерцо. Окруженное топким берегом и кривыми маленькими соснами, оно выглядело довольно зловеще, хотя необыкновенно красиво. Он никогда не бывал здесь прежде, но по рассказам местных знал, что где-то на берегу есть избушка, и, рискуя в темноте свернуть шею, пошел вдоль воды, пока не уперся в бревенчатый сруб.
В первый момент он даже отказался поверить в свое везение. В избушке то ли кто-то жил, то ли постоянно сюда наведывался, но, посветив спичкой, он увидел на столе керосиновую лампу, банку с чаем, кружки, консервы, дрова, пилу, топор и рыболовные снасти. «Не хватает только водки», – подумал он радостно, но водка, пожалуй, и не требовалась.
Минут десять он сидел без движения, наслаждаясь покоем и запахом жилья, выкурил сигарету, а потом затопил печку, принес воды, начистил и поставил вариться картошку. Теперь спешить было некуда, он делал все по своему обыкновению аккуратно, получая от каждого из этих простых действий то неизъяснимое, особое удовольствие, какое способен ощутить в лесу лишь горожанин. В десятом часу вечера, когда в избушке стало совсем тепло, он поужинал и, сидя у огня, покуривая крепкую «Астру» и попивая чай из озерной воды, погрузился в сонное, неторопливое течение своих мыслей.
Он думал о том, что еще недавно, всего несколько лет назад, он бы не смог почувствовать всю прелесть этой избушки и этого леса, его ощущения не были бы такими полными и глубокими, потому что он был слишком честолюбив, мучился от сознания своего несовершенства, к чему-то стремился, – теперь же, слава Богу, все это ушло. Быть может, его нынешнюю покойную и размеренную жизнь нельзя было назвать громким словом «счастье». Это было скорее довольство, понятие, заклейменное как обывательское, но, в сущности, безобидное и никому не причиняющее зла. Теперь все то, что он считал прежде целью каждого уважающего себя человека – дело жизни, признание, заслуженный успех, – потеряло былую привлекательность и в цене оказались совсем иные вещи. Наверное, это было чем-то вроде преждевременного старения, но он, мечтавший о невероятно интересной, захватывающей жизни, полной поездок, шума и встреч, он, желавший прославить свое имя и гордившийся собою, презиравший тех, кто разменивался на мелочи, довольствовался тем, что ходил в тихий академический институт, откуда разбежалась половина народу, не рассчитывал более ни на какую карьеру, ни на то, что его позовут за границу. Лучшими своими днями считал те, когда дважды в году, в мае и сентябре, ездил в глухую деревушку на границе Архангельской и Вологодской областей к скуповатой старухе с диковинным именем Текуза, которая за батон колбасы и два килограмма карамели сдавала ему комнату в громадной избе и весьма гордилась своим образованным непьющим постояльцем. При этом он не был ни охотником, ни рыболовом, ни грибником, в его отношении к природе не было ничего материального и корыстного. Он просто любил лес, любил по нему ходить, медленно и тихо, чтобы не вспугнуть раньше времени лесную птицу или зверя, слушать и вбирать в себя его запахи и звуки, и если и собирал корзину ягод или грибов, то делал это в охотку, не придавая этим дарам никакого значения. Местные жители его не понимали и считали за чудака, которому можно простить бесполезную трату времени лишь потому, что он горожанин, чужак, – а он был счастлив тем, что за целый день не встречал не только человека, но даже следов чьего-либо присутствия.
Лишь здесь ему было по-настоящему хорошо. Порою он думал, что пройдет еще несколько лет – и он переселится в эту деревню или в такую избушку насовсем, чтобы забыть о жизни, похоронившей его лучшие и худшие устремления, обижавшей его невезением, непониманием, черствостью, жизни, в сущности, не сложившейся по его ли вине или потому, что так вышло и жизнь не складывается у девяти десятых, только редко кто в этом сознается. Друзья, которых он растерял, потому что друзьям завидовал больше всех, и чем ближе был ему человек, тем больше раздражали его успехи. Те немногие женщины, с которыми он ненадолго сходился, но быстро остывал, чувствуя, что им надо тепла, а ему самому было холодно; жена, его совсем не понимавшая, чужая и равнодушная женщина, единственное достоинство которой заключалось в том, что она не мешала ему жить, как он хочет. А ведь если бы кто-нибудь сказал ему десять лет назад, что все так скучно и заурядно сложится, он бы этому человеку никогда не поверил. Он слишком высоко себя ставил и ценил, чтобы так быстро сдаться и опустить руки, а теперь и сам не знал, к лучшему или худшему то, что с ним произошло. Но в любом случае его судьба не самая печальная, по крайней мере, он свободен, здоров и у него еще будет достаточно времени и сил, чтобы насладиться лесными дорогами, остожьями, ручьями и не считать свою жизнь напрасной.
Дрова в печи догорали, и нужно было точно угадать момент, когда закрыть трубу, чтобы не выпустить лишнее тепло и не угореть. Это была достаточно тонкая вещь, и когда ему случалось топить печь, он иногда ошибался. Но теперь ошибиться не хотелось: ничто не должно было испортить этот вечер. Дрова еще переливались красным и желтым жаром, дрожали, рассыпались на угольки и подергивались налетом золы. Он отсел от печки и глядел, как отражаются огоньки в маленьком, затянутом паутинкой окошке, выходившем на озеро. Интересно, кто срубил и хранил в порядке эту избу? Как она уцелела, не была разграблена и сожжена? Мало ли людей шляется нынче по лесам даже в этих глухих местах. Но, так или иначе, он был благодарен неведомому человеку, не просто избавившему его от необходимости ночевать в промозглом лесу, но подарившему ощущение счастья.
Мужчина закрыл печь, вышел из избушки и подошел по деревянным мосткам к озеру. Теперь определить его величину было невозможно, но, сколько он помнил, оно было совсем маленькое. Такие озера обычно бывают очень глубокими, и он с волнением подумал о непуганых громадных рыбинах, которые медленно шевелят жабрами и где-то спят в ямах, изредка поднимаясь на поверхность, и во всем своем великолепии выбрасываются из воды. После жарко натопленной избушки холод был приятным, и он долго стоял на берегу, разглядывая то темную воду, то небо, где слегка прояснило и через лохматые облака проглядывали скуповатые редкие звезды. Он уже сильно замерз, но уходить было жалко, и он стоял и стоял на этом мостике, точно желая унести с собой ощущение темноты, смешанной с запахом озера и леса. Вдруг охватила его печальная и ясная мысль, что никогда больше такой ночи и такого пронзительного чувства благодарности миру и жизни за то, что они есть, у него не будет. Он не мог объяснить себе точно, отчего так подумал и что помешает ему прийти сюда снова, но от мысли, что он уедет, а озеро и изба останутся, ему сделалось тоскливо, как тяжелобольному человеку, в покойный и ясный день разглядывающему небо через запыленное больничное окошко.
Он вернулся в избу и в этом печальном настроении лег спать на грубые нары, подстелив под себя замасленную телогрейку. Спал он долго, беспокойно ворочался: он все-таки угорел слегка, а под утро замерз, и всю ночь его мучили сны, точно он куда-то едет по разбитой, некрасивой дороге на телеге с мерзлым картофелем, прицепленной к трактору, и не знает, куда и сколько еще ехать.
Когда он проснулся, погода переменилась. Нежное осеннее солнце освещало озерцо, и оно казалось не угрюмым, как накануне, а веселеньким и домашним, словно аквариум. Мужчина позавтракал и в знак благодарности оставил хозяину лесной избы складной нож.
По небольшому ручью, вытекавшему из озера, он спустился к реке, на которой стояла деревня, и пошел вдоль берега. Дорога была красива, на деревьях и на траве блестела паутина, шелестели под ногами листья, и в обнаженности леса было что-то музейное. Когда ему случалось подниматься на поросшие соснами гряды, открывались бесконечные темные дали, и казалось, что отсюда можно увидеть полунощное море. Он шел неслышно и неторопливо, и лицо у него было загадочным и вороватым, как у счастливого любовника.
Но когда несколько дней спустя он вернулся в свой заводской район возле водохранилища, у него возникло странное ощущение, что эта поездка в лес, самая удачная из всех, была дана ему как роздых перед чем-то очень тяжелым, с чем ему неминуемо предстоит столкнуться, и он не мог отделаться от смутной тревоги, затенявшей его радость.
– С тобой все в порядке? – спросил он жену, открыв скрипнувшую дверь в спальню.
Она ничего не ответила, но его взгляд, не равнодушный и отчужденный, как обычно, тронул ее.
– Что-нибудь случилось?
– Случилось, – волнуясь, неожиданно для себя самой произнесла она.
– Что?
– Я жду ребенка.
– Какого ребенка?
Она как-то виновато-довольно улыбнулась, как улыбалась только в первые годы их общей жизни, и показала руками на живот.
Однако загорелое, обветренное лицо мужа выразило не радость, а растерянность.
– И что ты решила? – спросил он осторожно, и она не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда догадалась, то лицо ее потемнело, она остро пожалела о своих словах и подумала, что никогда ему этого вопроса не простит.
3
Младенец привык к организму матери не сразу. Первые недели, когда женщина еще не была уверена в своей беременности, между нею и крохотным зародышем шла яростная борьба. Ее оплодотворенная после стольких пустых лет Бог знает какая по счету яйцеклетка вызвала целую бурю, и все ее существо начало сопротивляться посторонней жизни. Будь женщина на десяток лет моложе или случись это не первый раз, сопротивление не было бы таким упорным. Но, лелея мысль о дитяти, мешая тревогу и страх с нежностью и любовью, она и помыслить не могла, насколько близок был зародыш к гибели. Однако от своих ли родителей, от природы или по воле Бога он унаследовал отчаянную цепкость и, несмотря на лихорадку первых месяцев, сумел прицепиться к стенке матки и крепко за нее держался.
Это был младенец мужского пола, обещавший стать здоровым и крепким мужчиной. Он изнурял мать, но сумел взять от нее самое нужное, он был жаден, эгоистичен, жизнестоек, у него были свои ощущения и эмоции – он делал все то, что следовало ему делать, и развивался, как развиваются миллионы человеческих детенышей, кому удалось избежать преждевременной гибели или внутриутробного убийства.
Большей частью он спал и во сне рос, но, отделенный от внешнего мира непроницаемой оболочкой, частично воспринимал происходящее за пределами материнского живота. Он любил, когда мать гуляет, любил мелодичные плавные звуки, но плохо переносил, когда она нервничала, боялась или съедала что-нибудь острое. Он был весь в ее власти и целиком от нее зависел во всех мелочах, между ним теперешним и тем, кем ему предстояло стать, лежало громадное расстояние, несоразмерное с самой человеческой жизнью, и преодолеть его было еще сложнее, чем прожить жизнь.
Подобно тому как в спокойствии ясного дня облачко на горизонте может означать приближение ненастья, в организме женщины исподволь накапливалось и развивалось неблагополучие. Оно было пока незаметным, его не могла почувствовать ни сама женщина, ни определить опытные врачи или умные приборы, но младенец забеспокоился и принялся посылать матери сигналы, выплескивавшиеся в мутных снах.
Эти сны были поначалу мимолетны, и, просыпаясь, она их не помнила, лишь чувствовала себя после ночи разбитой. Но однажды ее разбудило особенно пронзительное сновидение. Была лунная ночь, комнату освещал зыбкий неприятный свет, ей чудился привезенный мужем запах леса, костра, грибов, болота и лесных ягод – запах, который она так любила прежде, но теперь раздражавший ее, как почти все запахи.
Несколько минут она лежала не двигаясь, вытянув руки вдоль затекшего, онемевшего тела, и ждала, не шевельнется ли маленький. Но, утомленный, он заснул, и она опять почувствовала себя одиноко. Сон не шел: женщина с трудом повернулась на бок и поглядела в окно. Там, за деревьями с поредевшей листвой, медленно и бесшумно двигалась самоходная баржа. Она остановилась в шлюзе и стала подниматься, вырастая до размеров неимоверных.