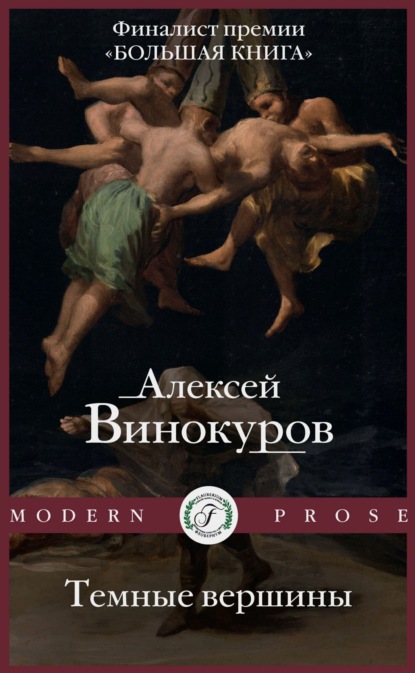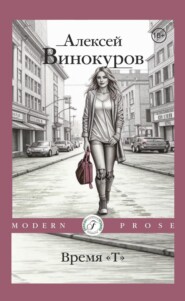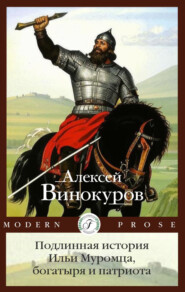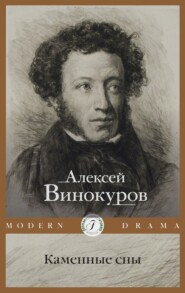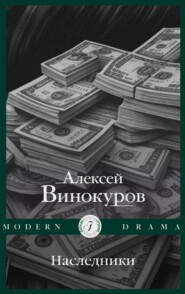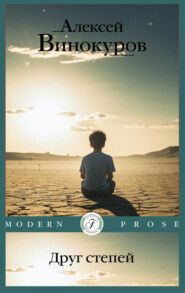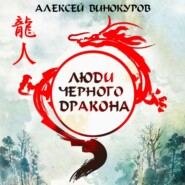По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Темные вершины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прокуратор лечился от болезни, поглаживая дога, и это ему очень помогало – пока на горизонте не появился, осиянный славой, великий лекарь Иисус Назорей. Кантришвили повезло меньше, ему не помогали ни собаки, ни кошки, ни иные звери и насекомые. С каждым новым приступом он все глубже спускался в преисподнюю, а древний доктор все не спешил воскреснуть и явиться на пороге его спальни.
Нет, он не сломился, конечно… не так сразу, во всяком случае. Он перепробовал все, от папазола до обертывания головы кожей молодого крокодила – вычитал в каком-то древнем папирусе этот вернейший способ, которым спасались от мигрени еще цари древнего Та-уи. Но то ли обманули предки фараонов, кинули подлянку, то ли крокодил был недостаточно молодой, а, может, и то, и другое сразу – кожа не действовала, нет, никак. Часами Валерий Витальевич сидел, обмотавшись зловонной жесткой шкурой, похожий в темноте на страшного выходца с того света, но все было втуне – только башка без толку прела, как утиные яйца в извести.
Но чего же было ждать, скажите, от рядового крокодила, если не спасали даже новейшие топирамат с габалентином!
Не помогало ничто и никто – ни обычные врачи, ни испытанные временем бабки, ни даже маги с экстрасенсами. Маги бешено вращали белками, бормотали о порче и сглазе, экстрасенсы вкрадчиво упоминали об астральных хвостах, которые хорошо бы обрубить… Все это приводило Кантришвили в бешеное раздражение: в разговорах о хвостах чудились ему неприличные намеки на то, что он не законный потомок гордого орла, а байстрюк, осел, рожденный от обезьяны, словно какой-нибудь Чарльз Дарвин. Однако он овладевал собой, соглашался на лечение, ибо лучше здоровой обезьяне, чем дохлому орлу. Порча снималась, хвосты иссекались в лапшу, но болезнь не пятилась, а только набирала силу, грызла, морила, мордовала.
Кто-то из многочисленных и бесполезных докторов рекомендовал ему прогулки на свежем воздухе. Грузин послушался, часами гулял по яблоневому саду, то хрупкому, заснеженному, в узорных ледяных порезах, то в сиренево-белом пушистом цветении, то отягощенному греховными глянцево-красными, как поцелуй, плодами. Гулял, шевелил широкими ноздрями, нюхал кислород, вдыхал полной грудью, до головокружения, до потери себя… Но всего-то и пользы из этого было, что зверский аппетит, а мигрень не делала назад и шагу, будто угнездилась в нем навсегда.
И тогда настал последний и решительный миг, ультима рацио любого лечения, шанс для великой панакеи двадцатого века – неразведенной мочи. Мочу, по верному рецепту, требовалось не только испускать, но и пить – о гемикрания, шени деда, о дочь обезьяны, на что пришлось пойти из-за тебя!
Моча бешено не нравилась бедному страдальцу, кисла в животе, отрыгивалась тухлым, но боль была сильнее отвращения. Каждый день он выпивал мочи довольно, чтобы свалить с ног роту спецназа, но болезнь была тут как тут, а приступы ее, раньше случайные, повторялись нагло, как икота.
Вызванный к телу академик медицины сыпал, гад, непонятными терминами, нараспев, как раввин, читал у одра лекции-молитвы, а затем, взявши немалый гонорар, выписал парацетамол и растворился во тьме, чтобы больше не появиться никогда – гамарджвебит, генацвале Кантришвили! Несчастный же Грузин оставался отнюдь не с победой, но один на один с дикой болью, длящейся по много часов, сутками.
В такие дни империя его – чудовищный колосс, взращенный кровью, воровством, подкупом и обманом – дрожала на глиняных ногах. Во время приступов он был беспомощен, воля его и мысль каменели в параличе. К счастью, об этом знали немногие, и тайна хранилась свято. Если бы проведали о немощах Грузина, если б его наши враги взяли, то растерзали бы на кусочки вместе с империей и всеми деньгами, и тогда прощай, Валерий Витальевич, гза мшвидобиса! Однако все рты, могущие проболтаться, были замкнуты смертным страхом – Грузин не пощадил бы предателя, разорвал на мелкие части. Казнь к отступникам применялась одна, но страшная: в одном бурдюке смешивались ахашени, вазисубани, киндзмараули, мукузани, напареули, ркацители, телиани, хванчкара и цинандали – и при помощи трубочки чудовищный компот закачивался в задний проход приговоренного. Смерть была не так мучительна, как позорна – какой кавказец мог стерпеть, что столько вина тратится не по адресу, вер мицем танхмоба!
Грузин был великий мыслитель криминального дела, размах его был огромен, воля – несокрушима. Когда бы не подлая гемикрания, уже давно бы он стал повелителем мира. Но, как справедливо гласит старая пословица, у бодливой коровы Бог отнимет последние рога и даже хвоста не оставит в утешение.
Больше всего во всей истории его бесило, что гемикрания досталась ему безвинно, то есть по наследству от матери, простой крестьянки. Ему понятна была бы болезнь, которую он сам заслужил – неумеренными возлияниями, беспорядочным образом жизни, плохим отношением к женщине, еще чем-то столь же отвратительным. Но генетика, продажная девка империализма?! Он ревел, лежа в кровати, и, как бык, бил кулаками по подушке… Как странно и неправедно устроен мир: кому-то в наследство достаются лучшие человеческие черты – смелость, дерзость, сила, ум, богатство, а кому-то, как ему, Грузину, только болезни, да еще такие ужасные.
Последняя его надежда была на профессора Хитрована – тьфу, и подлая же фамилия, прости Господи! Хитрован этот бешеных стоил денег, потому что пользовал самого базилевса. Профессора сосватали ему добрые люди из окружения высочайшего. Обещали, что, если не он, так уж никто, ни даже сам господь Бог ему тогда не помощник в его горе.
Очень надеялся Кантришвили на профессора, а и на кого больше мог он надеяться? Но надежда эта рухнула, пошла прахом. Вчера профессор ходил к базилевсу, сегодня с утра должен был быть у него, Грузина. Но не пришел, не появился, на звонки не отвечал. А добрые люди из окружения сухо сказали, что профессор срочно улетел за границу на неопределенный срок.
Грузин понимал, что значат такие слова, и глупых вопросов – куда, да когда вернется – задавать не стал. Просто упал в кресло и приготовился умирать от боли день, два – сколько понадобится, будь она неладна, эта чертова заграница и будь они прокляты, профессора, не умеющие держать слова. Если бы он, Грузин, что-то пообещал, он бы из гроба встал, чтобы выполнить обещание – но таких людей совсем почти не осталось на свете, измельчал безвозвратно род человеческий.
Ко всему счастью на вечер назначен был разговор с криминальным авторитетом, держателем воровского общака Сергеем Козюлиным, или, проще, Козюлей. И хотя сам Грузин не был ни законником, ни рецидивистом, но удачный бизнес в городе зависел от связей с преступным миром, который, в свою очередь был тесно переплетен с прокуратурой, полицией и мэрией.
Воры настойчиво звали его в баню – попариться и перетереть важные вопросы. Но при одной мысли о влажной, жаркой, душной парилке с фальшивым сосновым запахом Грузину делалось дурно, хоть под кровать лезь.
Из-за болезни он уже дважды переносил встречу, вызвав недовольство воров, которые расценили это, как плевок в татуированную их рожу.
– Грузин – большой человек, но закон – больше Грузина, – передали ему через гонца в устной форме. – Если Грузин не будет уважать закон, закон будет иметь Грузина.
Под законом, конечно, разумели не уголовный кодекс и конституцию, а воровские порядки, по которым, отбросив стыд, жила теперь вся страна.
Посланник воров, худой туберкулезный шнырь с линялыми длинными волосами во всю лысину стоял перед ним вольно, смотрел нагло, дерзко. Кантришвили мог испепелить его в мгновение ока, но понимал, что все впустую: и с мертвого лица воровские глаза эти будут смотреть так же нагло и насмешливо.
Да, мог убить, растерзать шныря, распылить на атомы, но отпустил с миром, только бросил кратко:
– Передай – буду.
Получить черную метку от криминалитета – вот чего он хотел сейчас меньше всего. Помочь тут не могли даже земляки, грузинские воры. Если есть разговор, надо его разговаривать, иначе отправят на свидание с отцом всех воров Кобой.
Но выходить на терки в таком виде было немыслимо, все сразу бы догадались, что он болен, слаб, уязвим. И немыслимо было не выходить, потому что пошли бы слухи, а они страшнее пистолета, упертого в затылок, и даже страшнее правды. Вот потому Кантришвили сидел теперь на кресле, следил за молниями в мозгу и мечтал только об одном – умереть быстро и окончательно.
Но умереть он не успел.
В болезненной полутьме, слабо разжижаемой ночником, вдруг почуял он какое-то движение, а потом услышал и шорох. На миг в изможденном мозгу вспыхнула паническая мысль – прознали все-таки о его немощи враги, пришли, теперь заберут жизнь Грузина вместе с его империей, со всеми фирмами, банками, фальшивыми авизо и складами оружия.
Грузин собрал остаток сил и спросил, стараясь, чтобы голос звучал твердо:
– Кто здесь?!
Темнота пригнулась к полу в подобострастном поклоне, зашелестела чуть слышно, а Грузину все равно чудилось, что гремит, грохочет, бьет жестяными тарелками прямо над ухом.
– Простите, хозяин, – Грузин узнал голос телохранителя Аслана, выдохнул с облегчением, – простите, беспокою…
– Что стряслось? – поняв, что врагов нет, что рядом только верный Аслан, Грузин воспрял и даже боль, кажется, отступила на миг – может, от страха, а, может, целебный яд адреналина спугнул ее, отогнал на несколько сантиметров, хотя не до конца: все еще ходила вокруг, дышала жаром в лицо, выцеливала, куда ударить когтистой черной лапой.
– К вам пришли, хозяин…
– Пришли? – Грузин от изумления даже приподнялся из страдальческого своего, полулежачего положения, глядел на охранника, не верил в такую наглость. Он тут мужественно сражается с болезнью, и нате, пришли к нему! Позвольте узнать, что это за пришельцы такие? Может быть, гуманоиды с неведомой планеты? Или какие-нибудь снежные человеки, а?
– Нет, хозяин, обычные лохи, – Аслан юмора не понимал, не за это оценит его история.
Лохи?! Прогнило что-то в датском королевстве, если любой и всякий лох может вот так взять, да и прорваться к нему в самый разгар приступа священной гемикрании. Или нет, он путает что-то… Это эпилепсия священная, а гемикрания так, просто невыносимая.
– Я прогнать хотел, они не уходят, – извиняющимся тоном шелестел между тем Аслан, словно и не слышал мыслей Грузина, а ведь должен был, обязан, за то и держали.
– Не уходят? Убить не пробовал? – Кантришвили вдруг сделалось весело: боль рассосалась и обратно пока не шла.
– Без приказа хозяина не имею права, – кланялся Аслан.
– А уголовный кодекс тебе уже не хозяин? – веселился Грузин.
Охранник понял, что первая опасность миновала, гроза если не разошлась окончательно, то отступила на время, безопасно погромыхивала вдали.
– Живьем прикажете выбросить или наказать за наглость? – Аслан осклабился, он любил, когда хозяин шутит, это было время богатых подарков и душевного спокойствия. В это время можно было жить удобно, не убивать и не умирать самому.
Грузин думал секунду над его словами, потом покачал головой. Выбросить никогда не поздно, но ведь зачем-то пришли к нему совсем незнакомые люди… Грузин, как всякий большой и опасный человек, очень верил в судьбу, фортуну, в то, что все неслучайно.
– Что им надо?
– Говорят, дело жизни и смерти, – потупился охранник.
– Чьей жизни?
– А? – не понял Аслан.
– Чьей, говорю, жизни, чьей смерти – моей?
– Не знаю, хозяин. Ничего не сказали, просят впустить для разговора. Я бы убил для начала, а там как скажете.
Грузин только головой покрутил. «Вот наглые!» – читал в его изумленном взгляде Аслан. Но голова не болела, а хорошее настроение не отпускало, и он махнул рукой.
– Давай, заводи!
Нет, он не сломился, конечно… не так сразу, во всяком случае. Он перепробовал все, от папазола до обертывания головы кожей молодого крокодила – вычитал в каком-то древнем папирусе этот вернейший способ, которым спасались от мигрени еще цари древнего Та-уи. Но то ли обманули предки фараонов, кинули подлянку, то ли крокодил был недостаточно молодой, а, может, и то, и другое сразу – кожа не действовала, нет, никак. Часами Валерий Витальевич сидел, обмотавшись зловонной жесткой шкурой, похожий в темноте на страшного выходца с того света, но все было втуне – только башка без толку прела, как утиные яйца в извести.
Но чего же было ждать, скажите, от рядового крокодила, если не спасали даже новейшие топирамат с габалентином!
Не помогало ничто и никто – ни обычные врачи, ни испытанные временем бабки, ни даже маги с экстрасенсами. Маги бешено вращали белками, бормотали о порче и сглазе, экстрасенсы вкрадчиво упоминали об астральных хвостах, которые хорошо бы обрубить… Все это приводило Кантришвили в бешеное раздражение: в разговорах о хвостах чудились ему неприличные намеки на то, что он не законный потомок гордого орла, а байстрюк, осел, рожденный от обезьяны, словно какой-нибудь Чарльз Дарвин. Однако он овладевал собой, соглашался на лечение, ибо лучше здоровой обезьяне, чем дохлому орлу. Порча снималась, хвосты иссекались в лапшу, но болезнь не пятилась, а только набирала силу, грызла, морила, мордовала.
Кто-то из многочисленных и бесполезных докторов рекомендовал ему прогулки на свежем воздухе. Грузин послушался, часами гулял по яблоневому саду, то хрупкому, заснеженному, в узорных ледяных порезах, то в сиренево-белом пушистом цветении, то отягощенному греховными глянцево-красными, как поцелуй, плодами. Гулял, шевелил широкими ноздрями, нюхал кислород, вдыхал полной грудью, до головокружения, до потери себя… Но всего-то и пользы из этого было, что зверский аппетит, а мигрень не делала назад и шагу, будто угнездилась в нем навсегда.
И тогда настал последний и решительный миг, ультима рацио любого лечения, шанс для великой панакеи двадцатого века – неразведенной мочи. Мочу, по верному рецепту, требовалось не только испускать, но и пить – о гемикрания, шени деда, о дочь обезьяны, на что пришлось пойти из-за тебя!
Моча бешено не нравилась бедному страдальцу, кисла в животе, отрыгивалась тухлым, но боль была сильнее отвращения. Каждый день он выпивал мочи довольно, чтобы свалить с ног роту спецназа, но болезнь была тут как тут, а приступы ее, раньше случайные, повторялись нагло, как икота.
Вызванный к телу академик медицины сыпал, гад, непонятными терминами, нараспев, как раввин, читал у одра лекции-молитвы, а затем, взявши немалый гонорар, выписал парацетамол и растворился во тьме, чтобы больше не появиться никогда – гамарджвебит, генацвале Кантришвили! Несчастный же Грузин оставался отнюдь не с победой, но один на один с дикой болью, длящейся по много часов, сутками.
В такие дни империя его – чудовищный колосс, взращенный кровью, воровством, подкупом и обманом – дрожала на глиняных ногах. Во время приступов он был беспомощен, воля его и мысль каменели в параличе. К счастью, об этом знали немногие, и тайна хранилась свято. Если бы проведали о немощах Грузина, если б его наши враги взяли, то растерзали бы на кусочки вместе с империей и всеми деньгами, и тогда прощай, Валерий Витальевич, гза мшвидобиса! Однако все рты, могущие проболтаться, были замкнуты смертным страхом – Грузин не пощадил бы предателя, разорвал на мелкие части. Казнь к отступникам применялась одна, но страшная: в одном бурдюке смешивались ахашени, вазисубани, киндзмараули, мукузани, напареули, ркацители, телиани, хванчкара и цинандали – и при помощи трубочки чудовищный компот закачивался в задний проход приговоренного. Смерть была не так мучительна, как позорна – какой кавказец мог стерпеть, что столько вина тратится не по адресу, вер мицем танхмоба!
Грузин был великий мыслитель криминального дела, размах его был огромен, воля – несокрушима. Когда бы не подлая гемикрания, уже давно бы он стал повелителем мира. Но, как справедливо гласит старая пословица, у бодливой коровы Бог отнимет последние рога и даже хвоста не оставит в утешение.
Больше всего во всей истории его бесило, что гемикрания досталась ему безвинно, то есть по наследству от матери, простой крестьянки. Ему понятна была бы болезнь, которую он сам заслужил – неумеренными возлияниями, беспорядочным образом жизни, плохим отношением к женщине, еще чем-то столь же отвратительным. Но генетика, продажная девка империализма?! Он ревел, лежа в кровати, и, как бык, бил кулаками по подушке… Как странно и неправедно устроен мир: кому-то в наследство достаются лучшие человеческие черты – смелость, дерзость, сила, ум, богатство, а кому-то, как ему, Грузину, только болезни, да еще такие ужасные.
Последняя его надежда была на профессора Хитрована – тьфу, и подлая же фамилия, прости Господи! Хитрован этот бешеных стоил денег, потому что пользовал самого базилевса. Профессора сосватали ему добрые люди из окружения высочайшего. Обещали, что, если не он, так уж никто, ни даже сам господь Бог ему тогда не помощник в его горе.
Очень надеялся Кантришвили на профессора, а и на кого больше мог он надеяться? Но надежда эта рухнула, пошла прахом. Вчера профессор ходил к базилевсу, сегодня с утра должен был быть у него, Грузина. Но не пришел, не появился, на звонки не отвечал. А добрые люди из окружения сухо сказали, что профессор срочно улетел за границу на неопределенный срок.
Грузин понимал, что значат такие слова, и глупых вопросов – куда, да когда вернется – задавать не стал. Просто упал в кресло и приготовился умирать от боли день, два – сколько понадобится, будь она неладна, эта чертова заграница и будь они прокляты, профессора, не умеющие держать слова. Если бы он, Грузин, что-то пообещал, он бы из гроба встал, чтобы выполнить обещание – но таких людей совсем почти не осталось на свете, измельчал безвозвратно род человеческий.
Ко всему счастью на вечер назначен был разговор с криминальным авторитетом, держателем воровского общака Сергеем Козюлиным, или, проще, Козюлей. И хотя сам Грузин не был ни законником, ни рецидивистом, но удачный бизнес в городе зависел от связей с преступным миром, который, в свою очередь был тесно переплетен с прокуратурой, полицией и мэрией.
Воры настойчиво звали его в баню – попариться и перетереть важные вопросы. Но при одной мысли о влажной, жаркой, душной парилке с фальшивым сосновым запахом Грузину делалось дурно, хоть под кровать лезь.
Из-за болезни он уже дважды переносил встречу, вызвав недовольство воров, которые расценили это, как плевок в татуированную их рожу.
– Грузин – большой человек, но закон – больше Грузина, – передали ему через гонца в устной форме. – Если Грузин не будет уважать закон, закон будет иметь Грузина.
Под законом, конечно, разумели не уголовный кодекс и конституцию, а воровские порядки, по которым, отбросив стыд, жила теперь вся страна.
Посланник воров, худой туберкулезный шнырь с линялыми длинными волосами во всю лысину стоял перед ним вольно, смотрел нагло, дерзко. Кантришвили мог испепелить его в мгновение ока, но понимал, что все впустую: и с мертвого лица воровские глаза эти будут смотреть так же нагло и насмешливо.
Да, мог убить, растерзать шныря, распылить на атомы, но отпустил с миром, только бросил кратко:
– Передай – буду.
Получить черную метку от криминалитета – вот чего он хотел сейчас меньше всего. Помочь тут не могли даже земляки, грузинские воры. Если есть разговор, надо его разговаривать, иначе отправят на свидание с отцом всех воров Кобой.
Но выходить на терки в таком виде было немыслимо, все сразу бы догадались, что он болен, слаб, уязвим. И немыслимо было не выходить, потому что пошли бы слухи, а они страшнее пистолета, упертого в затылок, и даже страшнее правды. Вот потому Кантришвили сидел теперь на кресле, следил за молниями в мозгу и мечтал только об одном – умереть быстро и окончательно.
Но умереть он не успел.
В болезненной полутьме, слабо разжижаемой ночником, вдруг почуял он какое-то движение, а потом услышал и шорох. На миг в изможденном мозгу вспыхнула паническая мысль – прознали все-таки о его немощи враги, пришли, теперь заберут жизнь Грузина вместе с его империей, со всеми фирмами, банками, фальшивыми авизо и складами оружия.
Грузин собрал остаток сил и спросил, стараясь, чтобы голос звучал твердо:
– Кто здесь?!
Темнота пригнулась к полу в подобострастном поклоне, зашелестела чуть слышно, а Грузину все равно чудилось, что гремит, грохочет, бьет жестяными тарелками прямо над ухом.
– Простите, хозяин, – Грузин узнал голос телохранителя Аслана, выдохнул с облегчением, – простите, беспокою…
– Что стряслось? – поняв, что врагов нет, что рядом только верный Аслан, Грузин воспрял и даже боль, кажется, отступила на миг – может, от страха, а, может, целебный яд адреналина спугнул ее, отогнал на несколько сантиметров, хотя не до конца: все еще ходила вокруг, дышала жаром в лицо, выцеливала, куда ударить когтистой черной лапой.
– К вам пришли, хозяин…
– Пришли? – Грузин от изумления даже приподнялся из страдальческого своего, полулежачего положения, глядел на охранника, не верил в такую наглость. Он тут мужественно сражается с болезнью, и нате, пришли к нему! Позвольте узнать, что это за пришельцы такие? Может быть, гуманоиды с неведомой планеты? Или какие-нибудь снежные человеки, а?
– Нет, хозяин, обычные лохи, – Аслан юмора не понимал, не за это оценит его история.
Лохи?! Прогнило что-то в датском королевстве, если любой и всякий лох может вот так взять, да и прорваться к нему в самый разгар приступа священной гемикрании. Или нет, он путает что-то… Это эпилепсия священная, а гемикрания так, просто невыносимая.
– Я прогнать хотел, они не уходят, – извиняющимся тоном шелестел между тем Аслан, словно и не слышал мыслей Грузина, а ведь должен был, обязан, за то и держали.
– Не уходят? Убить не пробовал? – Кантришвили вдруг сделалось весело: боль рассосалась и обратно пока не шла.
– Без приказа хозяина не имею права, – кланялся Аслан.
– А уголовный кодекс тебе уже не хозяин? – веселился Грузин.
Охранник понял, что первая опасность миновала, гроза если не разошлась окончательно, то отступила на время, безопасно погромыхивала вдали.
– Живьем прикажете выбросить или наказать за наглость? – Аслан осклабился, он любил, когда хозяин шутит, это было время богатых подарков и душевного спокойствия. В это время можно было жить удобно, не убивать и не умирать самому.
Грузин думал секунду над его словами, потом покачал головой. Выбросить никогда не поздно, но ведь зачем-то пришли к нему совсем незнакомые люди… Грузин, как всякий большой и опасный человек, очень верил в судьбу, фортуну, в то, что все неслучайно.
– Что им надо?
– Говорят, дело жизни и смерти, – потупился охранник.
– Чьей жизни?
– А? – не понял Аслан.
– Чьей, говорю, жизни, чьей смерти – моей?
– Не знаю, хозяин. Ничего не сказали, просят впустить для разговора. Я бы убил для начала, а там как скажете.
Грузин только головой покрутил. «Вот наглые!» – читал в его изумленном взгляде Аслан. Но голова не болела, а хорошее настроение не отпускало, и он махнул рукой.
– Давай, заводи!