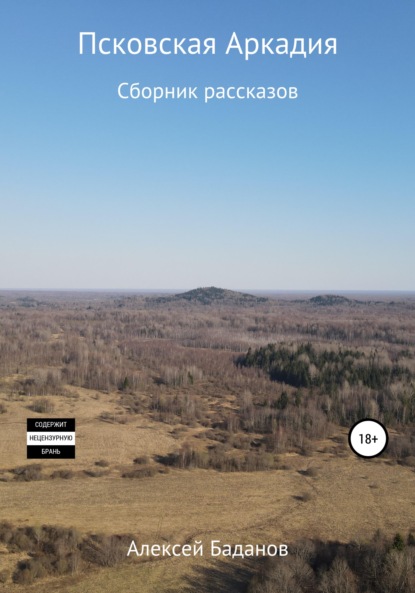По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Псковская Аркадия. Сборник рассказов
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Псковская Аркадия. Сборник рассказов
Алексей Вячеславович Баданов
Все истории, рассказанные в этой книге, произошли на самом деле с автором или лично знакомыми ему людьми. Людьми, населяющими часть земной поверхности, именуемой Псковская Аркадия.
Содержит нецензурную брань.
Алексей Баданов
Псковская Аркадия. Сборник рассказов
Арлекино.
Келья отца Серапиона не соответствовала его богатырскому телосложению. Домик священника, срубленный в первые послевоенные годы «из того что было», размерами и конфигурацией больше походил на баню. «Омыться банею пакибытия», промелькнуло в голове у Сашки непонятное церковное выражение, слышанное недавно. Он сидел уже четверть часа один в помещении площадью не более шести квадратных метров и дожидался возвращения священника, пригласившего его «на чаёк и за жизнь» и исчезнувшего, едва они только вошли со словами: «ты Санька посиди, я сейчас.»
Поначалу он взялся рассматривать стены, но это быстро наскучило: все свободное пространство было занято иконами – старыми, новыми, большими, маленькими, написанными на выгнутых и треснувших от времени досках и напечатанными в типографии. Их количество здесь явно перевалило за сотню. Сашка, считавший себя ценителем современной живописи, чувствовал себя несколько не уютно под прицелом иконописных глаз.
На небольшом столе, занимавшем значительную часть комнаты, стоял заварной чайник с отколотой ручкой, стеклянная банка из-под кабачковой икры, исполнявшая функцию сахарницы и древний радиоприёмник «ВЭФ» с выдвинутой под самый потолок антенной. Сам стол был накрыт сложённой вчетверо затертой простыней и куском парниковой полиэтиленовой пленки, что в совокупности являло собой скатерть.
Чувствуя себя не в своей тарелке, Сашка рефлекторно нажал кнопку «Вкл.» и приёмник неожиданно чисто и громко огласил келью знакомым с детства голосом всероссийской любимицы: «Ах Арлекино, Арлекино! Нужно быть смешным для всех! Арлекино, Арлекино, есть одна награда – смех».
Неожиданно появившаяся из-за Сашкиной спины рука в широченном рукаве тотчас нажала кнопку «Выкл».
– Не люблю я эту песню. У меня с ней очень неприятное воспоминание связано. – отец Серапион говорил немного уставшим низким голосом. К его способности беззвучно появляться, не смотря на почти двухметровый рост и «косую сажень», Сашка привыкнуть не мог. Его это и удивляло и немного пугало.
Впервые Сашка попал в гости к Серапиону два года назад совершенно случайно.
Февральский автостоп из Киева в Питер оказался крайне неудачным. Начать с того, что он проснулся в неизвестное время суток (окна были вечно зашторены) от того, что на кухне, где он спал, громко ссорилась интернациональная пара, составленная из американца – джазового саксофониста Роберта, которого почему-то все звали Бертой и его girl-friend – минской художницы Олеси. При этом Берта периодически вставлял в свою мягкую английскую речь жесткие русские слова, а Олесин русско-белорусско—украинский суржик постоянно прерывался родным для Роберта fuckin’ shit’ом. Но поразило Сашку (или Алекса, как его знали местные жители), не речевые обороты, а предмет спора: Олеся пыталась вручить Берте подарок на 23 февраля – день Советской Армии и Военно—Морского Флота. Берта же возмущённо отказывался, мотивируя тем что его отец – кадровый офицер ВВС США – воевал с «именинницей» в Корее и Вьетнаме, и даже был сбит, а кроме того сам подарок – ярко красные мужские носки – «fuckin’ ugly thing».
Произведя нехитрые подсчеты, Алекс пришёл к выводу, что зависает в «нехорошей квартире» около трёх недель, а жизнь коротка, надо много успеть и т.д.
Почувствовав необходимость двигаться вперёд, Сашка встал, набросил поверх чёрной бархатной куртки кожаный плащ, натянул ковбойские сапоги и вышел на морозную киевскую улицу. Как выяснилось в 3 часа ночи.
Пройдя по гулкому асфальту несколько километров, он обнаружил одиноко стоящую на обочине широкого проспекта машину Державной Автоинспекции и постучался в окно водительской двери. За рулем заведённых «жигулей» 8й модели спал, уткнувшись лицом в руль, нетрезвый пожилой инспектор. Стекло немного опустилось:
– Тобi чого?
– Подскажи, бать, как на трассу выйти в сторону Чернигова?
– Ну так и сiдай. Менi теж треба до Чернигова. Додому.
Но это был первый и последний удачный стоп в тот раз. В последующие двое суток Сашка прошёл пешком около 70 км по Белоруси, сменил десяток разнообразных транспортных средств, в основном старых легковых автомобилей. Две дальнобойные фуры, шедшие в Питер, застряли на госграницах: одна на украинско-белорусской, другая на белорусско—российской (была такая в те времена). В конце концов где-то на Псковщине его подобрал новенький чёрный «Джип Гранд Чироки» с двумя неразговорчивыми персонажами на передних сидениях. На все вопросы они отвечали кивком головы или никак. Проехав около часа в абсолютной тишине, водитель кивнул пассажиру, а тот повернулся к дремлющему на заднем сидении Сашке и сказал:
– Сейчас поможешь копать, а потом мы тебя отпустим.
– В смысле?
Сашку поразила страшная догадка, он обернулся, заглянул в багажник и увидел там что-то большое, упакованное в перетянутый скотчем зелёный туристический спальный мешок, лом и две перепачканные землёй лопаты: совковую и штыковую. Род деятельности «ритуальных агентов» не оставлял сомнений. Дождавшись, когда «Джип» свернет с асфальта, и с черепашьей скоростью начнёт переваливаться по лесовозным колеям, Сашка распахнул дверь и выпрыгнул в сугроб. Упал, тотчас вскочил на ноги и ломанулся в лес не разбирая дороги. Он услышал, как автомобиль остановился, кто-то забористо выругался, заднюю дверь захлопнули и поехали дальше.
Когда уровень адреналина начал опускаться, Сашка обнаружил, что забрёл довольно далеко. Опасности заблудиться в общем-то не было: цепочка собственных следов могла легко вывести его обратно на дорогу, но пока как-то… не хотелось.
Вечерело. Косые тени деревьев ложились на желтый в свете закатного солнца снег. Тишина нарушалась то хрустом ветки, ломающейся под снежной тяжестью, то непонятным уханьем, то раскатистым «карр». Переводя дух после получасового «трофи рейда», Сашка стоял, привалившись спиной к сосне, ветви которой начинались где-то далеко вверху.
Оглядевшись, он обнаружил в пяти шагах от себя лесовозную дорогу, которой правда не пользовались в этом сезоне, но тем не менее идти по ней было немного легче, чем просто ломиться через лес. Ну и кроме того дорога, очевидно, должна была куда-то вести. Что бы идти было веселей, Сашка скомандовал себе: «Песню запе-вай, раз, два!», и затянул в ритме военного марша: «Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we’ve born. Into this world we’ve thrown. Like a dog without a bone, an actor out of loan – riders on the storm…»
Дорога тем временем привела на большую поляну, образовавшуюся в результате заготовки леса и уже начинавшую зарастать маленькими елочками. Снег из желтого неожиданно быстро превратился в синеватый, затем в синий. Здесь, в глубине зимнего леса, звенящая тишина прерывалась случайными звуками гораздо реже.
Вдруг, с противоположенной стороны поляны Сашка явственно услышал колокольный звон. Боясь, что звон прекратиться и обнаружить его источник будет невозможно, он стал пробираться по сугробам между посаженными ровными рядами метровыми ёлками, едва ли не быстрее, чем ломился от мрачной похоронной команды час назад. И тут ему повезло: как только он пересёк по диагонали делянку, он вышел на хорошо укатанную, чуть ли не с сегодняшними следами дорогу, пробитую трактором-трелевочником, тащившим за собой связку спиленных деревьев – «хлыстов» и очистивших ими от снега довольно широкое пространство. И хотя звон вскоре прекратился, Сашка уже не сомневался, что дорога должна привести к жилью. Пройдя в густых лесных сумерках ещё четверть часа, он вышел на околицу маленького села, состоявшего едва ли из десятка домов, в дальнем конце которого белела шпилем, увенчанным восьмиконечным крестом, церковь. Любивший всякую историю, в том числе архитектурную, Сашка отметил про себя: «Классицизм. Первая треть 19 века. Наверное, усадьба какая была. А потом восставшие народные массы усадьбу в пьяном угаре сожгли, а церковь побоялись. Вдруг Он и правда накажет?»
В тот раз Сашка прожил у отца Серапиона две недели. Собственно, жил он не у него, а у одинокой и бездетной восьмидесятилетней бабы Нюры, которая была по совместительству и церковным хором и свечницей и в общем составляла 50 процентов населения точки на карте, носившей немудреное название Преображенское. Летом лесными тропами приходили десятка полтора дачников, но количество их уменьшалось год от года. Непопулярность этого затерянного уголка объяснялась очень просто: от асфальтированной дороги в Преображенское попасть можно было либо по короткой через лес, на которую Сашка и набрел, убегая от неудачных попутчиков, или по длинной полевой, шедшей вдоль топких берегов извилистой речки Петелки, с необходимостью форсировать саму речку перед въездом в село. Зимой дорогу никто не чистил, да и в любом случае качество подъезда что с одной, что с другой стороны, подразумевало наличие у транспортного средства гусениц, а у его водителя очень большой настойчивости в достижении цели. Весной и осенью на несколько недель оба пути оставались проезжими только для персонального вездехода отца Серапиона по имени Орлик, который боялся только волков. Пользуясь этим добрым и надежным транспортным средством, отец Серапион раз в месяц выезжал на большак, где пополнял с помощью передвижного сетевого супермаркета «Автолавка» необходимые припасы. Необходимость в пополнении припасов была не то чтобы велика, скорее нужно было, как выражался сам отец Серапион – «не забыть, как выглядят люди». В целом же хозяйство преображенских жителей было автономным: овощи давал огород, муку, крупы, чай и прочая закупались на год вперёд в складчину на пенсию бабы Нюры и пожертвования, которые приносили в храм прихожане, посещавшие богослужение трижды в году: на Рождество, на Пасху и на престольный праздник Преображения.
Постоянных прихожан было 7 – пять бабушек и два дедушки. Самой младшей – энергичной Валентине Григорьевне недавно исполнилось 64, а самому старшему – Никанору Никандровичу – 97, он был 1900 года рождения – «ровесник века» как он называл себя сам, а вслед за ним и все присутствующие. На трёх праздничных богослужениях обычно присутствовали человек 15 – 20, так как доставка «инициативной группы» требовала усилий значительного числа помощников и помощниц.
Общественным транспортом служил трелевочный трактор с прицепленной к нему колесной телегой, в которую складывали сено, зимой ещё и одеяла, и с шутками, а иногда и песнями, ехали «в крёсный ход», как любил выражаться леспромхозовский тракторист Валера, возивший прихожан по этому маршруту каждый год.
Действительно опасным и трудным был обратный путь. Как не убеждали Валеру путешественники, среди которых была и его 75 летняя мать, неистовое религиозное чувство заставляло тракториста «исполнить праздник» – то есть выпить припасенную заранее поллитру самогона – «первача», искусством изготовления которого он искренне гордился. И без того ухабистая лесная дорога превращалась в таком случае в аттракцион «американские горки», а благостные прихожане нет-нет, да потчевали своего перевозчика «Валеркой—антихристом» и «анафемой».
К вящему удивлению Сашки, служили отец Серапион и баба Нюра каждый день – с 6 до 9 утром и с 5 до 8 вечером. На Сашкин вопрос зачем так часто, отец Серапион ответил: «Ну вот топить же каждый день нужно. Если не топить – выстынет, потом нагревать долго».
Но чего больше всего не ожидал от себя столичный тусовщик Алекс – завсегдатай Московских Sexton и Arbath Blues Club и питерского TaMtAm’a, это что две недели в лесной глуши, в абсолютной тишине и по большей части наедине с собой придутся ему настолько по вкусу. И еще больше, что это гармоничное слияние со средой не потребовало от него ровным счетом никаких усилий!
Неразговорчивый, спокойный и какой-то бестелесный, отец Серапион казалось сам был частью царившего здесь покоя и гармонии. За богослужением он не «возглашал» громогласно, как это потом увидел Сашка в больших московских храмах, а как бы приглашал спокойным ровным голосом: «Миром Господу помолимся…».
Кроме двух часов в сутки отведённых на приём пищи – дневной трапезы в 12 и вечерней в 21, отец Серапион непрерывно что-то делал: готовил в лесу или колол дрова, чинил упряжь, «обряжал» статного, несмотря на почтенный (почти 20-летний) возраст, коня, переплетал и реставрировал древние книги или просто стирал, готовил и убирался – работы ему всегда хватало и делал он ее так, как Сашка больше не видел никогда в жизни: не торопясь, но очень быстро и спокойно. Любой инструмент, попадавший к отцу Серапиону в руки был продолжением его рук. Не было такой работы, которая бы раздражала его или была ему в тягость.
Ещё интересной особенностью отца Серапиона была его манера отвечать на заданный вопрос. Когда Сашка спрашивал его что-то, он поднимал указательный палец вверх и говорил с легкой полуулыбкой и кивком головы: «Угу.» После этого «ответа» проходило несколько часов или даже сутки. Отец Серапион неожиданно беззвучно появлялся около Сашки, делавшем какую-то очередную работу с некоторым «принуждением себя» и отвечал на заданный вопрос афористично, емко и так, что его ответы запоминались на всю жизнь.
Как-то раз Сашка спросил, почему его не раздражает ни какая работа и как найти дело своей жизни. Отец Серапион ответил своё обычное «Угу» и куда-то ушёл. На следующий день он дал Сашке лучковую пилу с крупными зубьями и попросил спилить нависший над церковной оградой вяз, засохший от какой-то болезни и грозивший падением. Вяз был не более 30 сантиметров в диаметре, но пилился очень тяжело – собственно название он получил не зря. Неожиданно оказавшийся за спиной отец Серапион сказал: «Дай-ка я». Взял пилу и начал пилить легко и с настолько явным удовольствием от процесса, что Сашка залюбовался его короткими сильными и точными движениями. Завершив в 10 минут работу, на половину которой у Сашки ушёл битый час с размышлениями о fuckin’ вязах и fuckin’ пилах, отец Серапион встал, стряхнул опилки с грязного «рабочего» подрясника, в котором он ходил всегда, когда находился вне церкви и сказал: «Понимаешь, Сань, просто любое дело надо полюбить. Делать с любовью. Вот ты сейчас эту несчастную деревяшку прям ненавидел. И все силы потратил на свою ненависть. А то, что ты готов любить у тебя где-то далеко. На островах каких-то».
На этом месте Сашка вздрогнул и пристально посмотрел в большие, глубоко посаженные и какие-то ясные глаза отца Серапиона. «А вы о куда про остров знаете?» «Да ничего я не знаю, это я так для примера сказал, чтоб ты понял.»
Дело в том, что что за минуту до прихода отца Серапиона, Сашка действительно сел в изнеможении у недопиленного вяза, закрыл глаза и попытался расслабится классическим приемом аутотренинга – представил себя лежащим на пляже, на тропическом острове и т.д.
«А любить это всегда здесь и сейчас, —продолжил отец Серапион, – С любовью любое дело делать легко. Это же про главное дело в жизни. Чем угодно заниматься можно. Главное – это дело полюбить».
Вроде бы слова были самые обыкновенные и даже слышимые уже 100 раз, но именно от отца Серапиона они проникали в самую глубину.
Вот и сейчас, сидя в кельи и попивая горячий травяной чай, Сашка думал, как в одном трехмерном пространстве может существовать планета Преображенское, где категории времени и места не имели особого значения, его бурная Московско-Питерско-Киевская жизнь, где он балансировал между богемными эскападами и суровой полукриминальной бизнес реальностью и, например, американский городок Кэтсвиль, где «утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти».
– Отче, а что за история с песней про Арлекина?
– Старая история. Первого мая 1980 года меня арестовали прямо в алтаре во время службы. На площади перед собором были первомайские «народные гуляния», только что демонстрация закончилась. Народу было много, КГБшной «Волге» не проехать и меня провели в полном иерейском облачении сквозь толпу через площадь в наручниках. А песню про Арлекино транслировали из громкоговорителей, чтоб людям было веселей, – он говорил это совершенно спокойно как-то удивляясь и немного стыдясь за людей в погонах, учинивших подобную глупость, – С тех пор я эту песню не люблю.
– Вас? Арестовали? Вот бред! – Сашка был искренне поражён известием, что такого человека, как отец Серапион могли арестовать, да и ещё вести по улице в наручниках, как какого-нибудь барыгу взятого с наркотой на кармане – ничего более абсурдного он представить себе не мог.
– Почему же бред? Я посильно высказывал неудовольствие советской властью. Она в свою очередь не имела никаких оснований быть довольной мной. Статья такая была – антисоветская агитация и пропаганда. Как настоятель главного городского собора я должен был выполнять инструкции уполномоченного по делам религии: письменно докладывать об обратившихся за крещением или венчанием. Я, естественно, такого непотребства не совершал и не позволял другим священнослужителям. Кто-то из них и стукнул. Точнее я даже знаю кто. Прости его, Господи, не ведал бо, что творил. Он теперь епископом работает. Кроме того, я переписывался с родственниками из эмигрантов, а это было куда как страшное преступление. Ну и письмо это подписал, против ввода советских войск в Афганистан.
– А потом что?
– Да ничего особенного. Посидел два года в следственном изоляторе в Челябинске. Все как обычно: жил-служил-не тужил. Потом отпустили. Мне от этой песни, про Арлекино, ощущение не нравится. Этот смех натужный. Я пока через площадь шёл – три раза послушал. Люди пьяненькие такие … веселенькие. Человеку в городе не хватает тишины. Себя послушать, своё сердце. Что-то всем сердцем полюбить, что-то возненавидеть. Быть целым и мудрым. Совместить в себе змия и голубя.
Алексей Вячеславович Баданов
Все истории, рассказанные в этой книге, произошли на самом деле с автором или лично знакомыми ему людьми. Людьми, населяющими часть земной поверхности, именуемой Псковская Аркадия.
Содержит нецензурную брань.
Алексей Баданов
Псковская Аркадия. Сборник рассказов
Арлекино.
Келья отца Серапиона не соответствовала его богатырскому телосложению. Домик священника, срубленный в первые послевоенные годы «из того что было», размерами и конфигурацией больше походил на баню. «Омыться банею пакибытия», промелькнуло в голове у Сашки непонятное церковное выражение, слышанное недавно. Он сидел уже четверть часа один в помещении площадью не более шести квадратных метров и дожидался возвращения священника, пригласившего его «на чаёк и за жизнь» и исчезнувшего, едва они только вошли со словами: «ты Санька посиди, я сейчас.»
Поначалу он взялся рассматривать стены, но это быстро наскучило: все свободное пространство было занято иконами – старыми, новыми, большими, маленькими, написанными на выгнутых и треснувших от времени досках и напечатанными в типографии. Их количество здесь явно перевалило за сотню. Сашка, считавший себя ценителем современной живописи, чувствовал себя несколько не уютно под прицелом иконописных глаз.
На небольшом столе, занимавшем значительную часть комнаты, стоял заварной чайник с отколотой ручкой, стеклянная банка из-под кабачковой икры, исполнявшая функцию сахарницы и древний радиоприёмник «ВЭФ» с выдвинутой под самый потолок антенной. Сам стол был накрыт сложённой вчетверо затертой простыней и куском парниковой полиэтиленовой пленки, что в совокупности являло собой скатерть.
Чувствуя себя не в своей тарелке, Сашка рефлекторно нажал кнопку «Вкл.» и приёмник неожиданно чисто и громко огласил келью знакомым с детства голосом всероссийской любимицы: «Ах Арлекино, Арлекино! Нужно быть смешным для всех! Арлекино, Арлекино, есть одна награда – смех».
Неожиданно появившаяся из-за Сашкиной спины рука в широченном рукаве тотчас нажала кнопку «Выкл».
– Не люблю я эту песню. У меня с ней очень неприятное воспоминание связано. – отец Серапион говорил немного уставшим низким голосом. К его способности беззвучно появляться, не смотря на почти двухметровый рост и «косую сажень», Сашка привыкнуть не мог. Его это и удивляло и немного пугало.
Впервые Сашка попал в гости к Серапиону два года назад совершенно случайно.
Февральский автостоп из Киева в Питер оказался крайне неудачным. Начать с того, что он проснулся в неизвестное время суток (окна были вечно зашторены) от того, что на кухне, где он спал, громко ссорилась интернациональная пара, составленная из американца – джазового саксофониста Роберта, которого почему-то все звали Бертой и его girl-friend – минской художницы Олеси. При этом Берта периодически вставлял в свою мягкую английскую речь жесткие русские слова, а Олесин русско-белорусско—украинский суржик постоянно прерывался родным для Роберта fuckin’ shit’ом. Но поразило Сашку (или Алекса, как его знали местные жители), не речевые обороты, а предмет спора: Олеся пыталась вручить Берте подарок на 23 февраля – день Советской Армии и Военно—Морского Флота. Берта же возмущённо отказывался, мотивируя тем что его отец – кадровый офицер ВВС США – воевал с «именинницей» в Корее и Вьетнаме, и даже был сбит, а кроме того сам подарок – ярко красные мужские носки – «fuckin’ ugly thing».
Произведя нехитрые подсчеты, Алекс пришёл к выводу, что зависает в «нехорошей квартире» около трёх недель, а жизнь коротка, надо много успеть и т.д.
Почувствовав необходимость двигаться вперёд, Сашка встал, набросил поверх чёрной бархатной куртки кожаный плащ, натянул ковбойские сапоги и вышел на морозную киевскую улицу. Как выяснилось в 3 часа ночи.
Пройдя по гулкому асфальту несколько километров, он обнаружил одиноко стоящую на обочине широкого проспекта машину Державной Автоинспекции и постучался в окно водительской двери. За рулем заведённых «жигулей» 8й модели спал, уткнувшись лицом в руль, нетрезвый пожилой инспектор. Стекло немного опустилось:
– Тобi чого?
– Подскажи, бать, как на трассу выйти в сторону Чернигова?
– Ну так и сiдай. Менi теж треба до Чернигова. Додому.
Но это был первый и последний удачный стоп в тот раз. В последующие двое суток Сашка прошёл пешком около 70 км по Белоруси, сменил десяток разнообразных транспортных средств, в основном старых легковых автомобилей. Две дальнобойные фуры, шедшие в Питер, застряли на госграницах: одна на украинско-белорусской, другая на белорусско—российской (была такая в те времена). В конце концов где-то на Псковщине его подобрал новенький чёрный «Джип Гранд Чироки» с двумя неразговорчивыми персонажами на передних сидениях. На все вопросы они отвечали кивком головы или никак. Проехав около часа в абсолютной тишине, водитель кивнул пассажиру, а тот повернулся к дремлющему на заднем сидении Сашке и сказал:
– Сейчас поможешь копать, а потом мы тебя отпустим.
– В смысле?
Сашку поразила страшная догадка, он обернулся, заглянул в багажник и увидел там что-то большое, упакованное в перетянутый скотчем зелёный туристический спальный мешок, лом и две перепачканные землёй лопаты: совковую и штыковую. Род деятельности «ритуальных агентов» не оставлял сомнений. Дождавшись, когда «Джип» свернет с асфальта, и с черепашьей скоростью начнёт переваливаться по лесовозным колеям, Сашка распахнул дверь и выпрыгнул в сугроб. Упал, тотчас вскочил на ноги и ломанулся в лес не разбирая дороги. Он услышал, как автомобиль остановился, кто-то забористо выругался, заднюю дверь захлопнули и поехали дальше.
Когда уровень адреналина начал опускаться, Сашка обнаружил, что забрёл довольно далеко. Опасности заблудиться в общем-то не было: цепочка собственных следов могла легко вывести его обратно на дорогу, но пока как-то… не хотелось.
Вечерело. Косые тени деревьев ложились на желтый в свете закатного солнца снег. Тишина нарушалась то хрустом ветки, ломающейся под снежной тяжестью, то непонятным уханьем, то раскатистым «карр». Переводя дух после получасового «трофи рейда», Сашка стоял, привалившись спиной к сосне, ветви которой начинались где-то далеко вверху.
Оглядевшись, он обнаружил в пяти шагах от себя лесовозную дорогу, которой правда не пользовались в этом сезоне, но тем не менее идти по ней было немного легче, чем просто ломиться через лес. Ну и кроме того дорога, очевидно, должна была куда-то вести. Что бы идти было веселей, Сашка скомандовал себе: «Песню запе-вай, раз, два!», и затянул в ритме военного марша: «Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we’ve born. Into this world we’ve thrown. Like a dog without a bone, an actor out of loan – riders on the storm…»
Дорога тем временем привела на большую поляну, образовавшуюся в результате заготовки леса и уже начинавшую зарастать маленькими елочками. Снег из желтого неожиданно быстро превратился в синеватый, затем в синий. Здесь, в глубине зимнего леса, звенящая тишина прерывалась случайными звуками гораздо реже.
Вдруг, с противоположенной стороны поляны Сашка явственно услышал колокольный звон. Боясь, что звон прекратиться и обнаружить его источник будет невозможно, он стал пробираться по сугробам между посаженными ровными рядами метровыми ёлками, едва ли не быстрее, чем ломился от мрачной похоронной команды час назад. И тут ему повезло: как только он пересёк по диагонали делянку, он вышел на хорошо укатанную, чуть ли не с сегодняшними следами дорогу, пробитую трактором-трелевочником, тащившим за собой связку спиленных деревьев – «хлыстов» и очистивших ими от снега довольно широкое пространство. И хотя звон вскоре прекратился, Сашка уже не сомневался, что дорога должна привести к жилью. Пройдя в густых лесных сумерках ещё четверть часа, он вышел на околицу маленького села, состоявшего едва ли из десятка домов, в дальнем конце которого белела шпилем, увенчанным восьмиконечным крестом, церковь. Любивший всякую историю, в том числе архитектурную, Сашка отметил про себя: «Классицизм. Первая треть 19 века. Наверное, усадьба какая была. А потом восставшие народные массы усадьбу в пьяном угаре сожгли, а церковь побоялись. Вдруг Он и правда накажет?»
В тот раз Сашка прожил у отца Серапиона две недели. Собственно, жил он не у него, а у одинокой и бездетной восьмидесятилетней бабы Нюры, которая была по совместительству и церковным хором и свечницей и в общем составляла 50 процентов населения точки на карте, носившей немудреное название Преображенское. Летом лесными тропами приходили десятка полтора дачников, но количество их уменьшалось год от года. Непопулярность этого затерянного уголка объяснялась очень просто: от асфальтированной дороги в Преображенское попасть можно было либо по короткой через лес, на которую Сашка и набрел, убегая от неудачных попутчиков, или по длинной полевой, шедшей вдоль топких берегов извилистой речки Петелки, с необходимостью форсировать саму речку перед въездом в село. Зимой дорогу никто не чистил, да и в любом случае качество подъезда что с одной, что с другой стороны, подразумевало наличие у транспортного средства гусениц, а у его водителя очень большой настойчивости в достижении цели. Весной и осенью на несколько недель оба пути оставались проезжими только для персонального вездехода отца Серапиона по имени Орлик, который боялся только волков. Пользуясь этим добрым и надежным транспортным средством, отец Серапион раз в месяц выезжал на большак, где пополнял с помощью передвижного сетевого супермаркета «Автолавка» необходимые припасы. Необходимость в пополнении припасов была не то чтобы велика, скорее нужно было, как выражался сам отец Серапион – «не забыть, как выглядят люди». В целом же хозяйство преображенских жителей было автономным: овощи давал огород, муку, крупы, чай и прочая закупались на год вперёд в складчину на пенсию бабы Нюры и пожертвования, которые приносили в храм прихожане, посещавшие богослужение трижды в году: на Рождество, на Пасху и на престольный праздник Преображения.
Постоянных прихожан было 7 – пять бабушек и два дедушки. Самой младшей – энергичной Валентине Григорьевне недавно исполнилось 64, а самому старшему – Никанору Никандровичу – 97, он был 1900 года рождения – «ровесник века» как он называл себя сам, а вслед за ним и все присутствующие. На трёх праздничных богослужениях обычно присутствовали человек 15 – 20, так как доставка «инициативной группы» требовала усилий значительного числа помощников и помощниц.
Общественным транспортом служил трелевочный трактор с прицепленной к нему колесной телегой, в которую складывали сено, зимой ещё и одеяла, и с шутками, а иногда и песнями, ехали «в крёсный ход», как любил выражаться леспромхозовский тракторист Валера, возивший прихожан по этому маршруту каждый год.
Действительно опасным и трудным был обратный путь. Как не убеждали Валеру путешественники, среди которых была и его 75 летняя мать, неистовое религиозное чувство заставляло тракториста «исполнить праздник» – то есть выпить припасенную заранее поллитру самогона – «первача», искусством изготовления которого он искренне гордился. И без того ухабистая лесная дорога превращалась в таком случае в аттракцион «американские горки», а благостные прихожане нет-нет, да потчевали своего перевозчика «Валеркой—антихристом» и «анафемой».
К вящему удивлению Сашки, служили отец Серапион и баба Нюра каждый день – с 6 до 9 утром и с 5 до 8 вечером. На Сашкин вопрос зачем так часто, отец Серапион ответил: «Ну вот топить же каждый день нужно. Если не топить – выстынет, потом нагревать долго».
Но чего больше всего не ожидал от себя столичный тусовщик Алекс – завсегдатай Московских Sexton и Arbath Blues Club и питерского TaMtAm’a, это что две недели в лесной глуши, в абсолютной тишине и по большей части наедине с собой придутся ему настолько по вкусу. И еще больше, что это гармоничное слияние со средой не потребовало от него ровным счетом никаких усилий!
Неразговорчивый, спокойный и какой-то бестелесный, отец Серапион казалось сам был частью царившего здесь покоя и гармонии. За богослужением он не «возглашал» громогласно, как это потом увидел Сашка в больших московских храмах, а как бы приглашал спокойным ровным голосом: «Миром Господу помолимся…».
Кроме двух часов в сутки отведённых на приём пищи – дневной трапезы в 12 и вечерней в 21, отец Серапион непрерывно что-то делал: готовил в лесу или колол дрова, чинил упряжь, «обряжал» статного, несмотря на почтенный (почти 20-летний) возраст, коня, переплетал и реставрировал древние книги или просто стирал, готовил и убирался – работы ему всегда хватало и делал он ее так, как Сашка больше не видел никогда в жизни: не торопясь, но очень быстро и спокойно. Любой инструмент, попадавший к отцу Серапиону в руки был продолжением его рук. Не было такой работы, которая бы раздражала его или была ему в тягость.
Ещё интересной особенностью отца Серапиона была его манера отвечать на заданный вопрос. Когда Сашка спрашивал его что-то, он поднимал указательный палец вверх и говорил с легкой полуулыбкой и кивком головы: «Угу.» После этого «ответа» проходило несколько часов или даже сутки. Отец Серапион неожиданно беззвучно появлялся около Сашки, делавшем какую-то очередную работу с некоторым «принуждением себя» и отвечал на заданный вопрос афористично, емко и так, что его ответы запоминались на всю жизнь.
Как-то раз Сашка спросил, почему его не раздражает ни какая работа и как найти дело своей жизни. Отец Серапион ответил своё обычное «Угу» и куда-то ушёл. На следующий день он дал Сашке лучковую пилу с крупными зубьями и попросил спилить нависший над церковной оградой вяз, засохший от какой-то болезни и грозивший падением. Вяз был не более 30 сантиметров в диаметре, но пилился очень тяжело – собственно название он получил не зря. Неожиданно оказавшийся за спиной отец Серапион сказал: «Дай-ка я». Взял пилу и начал пилить легко и с настолько явным удовольствием от процесса, что Сашка залюбовался его короткими сильными и точными движениями. Завершив в 10 минут работу, на половину которой у Сашки ушёл битый час с размышлениями о fuckin’ вязах и fuckin’ пилах, отец Серапион встал, стряхнул опилки с грязного «рабочего» подрясника, в котором он ходил всегда, когда находился вне церкви и сказал: «Понимаешь, Сань, просто любое дело надо полюбить. Делать с любовью. Вот ты сейчас эту несчастную деревяшку прям ненавидел. И все силы потратил на свою ненависть. А то, что ты готов любить у тебя где-то далеко. На островах каких-то».
На этом месте Сашка вздрогнул и пристально посмотрел в большие, глубоко посаженные и какие-то ясные глаза отца Серапиона. «А вы о куда про остров знаете?» «Да ничего я не знаю, это я так для примера сказал, чтоб ты понял.»
Дело в том, что что за минуту до прихода отца Серапиона, Сашка действительно сел в изнеможении у недопиленного вяза, закрыл глаза и попытался расслабится классическим приемом аутотренинга – представил себя лежащим на пляже, на тропическом острове и т.д.
«А любить это всегда здесь и сейчас, —продолжил отец Серапион, – С любовью любое дело делать легко. Это же про главное дело в жизни. Чем угодно заниматься можно. Главное – это дело полюбить».
Вроде бы слова были самые обыкновенные и даже слышимые уже 100 раз, но именно от отца Серапиона они проникали в самую глубину.
Вот и сейчас, сидя в кельи и попивая горячий травяной чай, Сашка думал, как в одном трехмерном пространстве может существовать планета Преображенское, где категории времени и места не имели особого значения, его бурная Московско-Питерско-Киевская жизнь, где он балансировал между богемными эскападами и суровой полукриминальной бизнес реальностью и, например, американский городок Кэтсвиль, где «утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти».
– Отче, а что за история с песней про Арлекина?
– Старая история. Первого мая 1980 года меня арестовали прямо в алтаре во время службы. На площади перед собором были первомайские «народные гуляния», только что демонстрация закончилась. Народу было много, КГБшной «Волге» не проехать и меня провели в полном иерейском облачении сквозь толпу через площадь в наручниках. А песню про Арлекино транслировали из громкоговорителей, чтоб людям было веселей, – он говорил это совершенно спокойно как-то удивляясь и немного стыдясь за людей в погонах, учинивших подобную глупость, – С тех пор я эту песню не люблю.
– Вас? Арестовали? Вот бред! – Сашка был искренне поражён известием, что такого человека, как отец Серапион могли арестовать, да и ещё вести по улице в наручниках, как какого-нибудь барыгу взятого с наркотой на кармане – ничего более абсурдного он представить себе не мог.
– Почему же бред? Я посильно высказывал неудовольствие советской властью. Она в свою очередь не имела никаких оснований быть довольной мной. Статья такая была – антисоветская агитация и пропаганда. Как настоятель главного городского собора я должен был выполнять инструкции уполномоченного по делам религии: письменно докладывать об обратившихся за крещением или венчанием. Я, естественно, такого непотребства не совершал и не позволял другим священнослужителям. Кто-то из них и стукнул. Точнее я даже знаю кто. Прости его, Господи, не ведал бо, что творил. Он теперь епископом работает. Кроме того, я переписывался с родственниками из эмигрантов, а это было куда как страшное преступление. Ну и письмо это подписал, против ввода советских войск в Афганистан.
– А потом что?
– Да ничего особенного. Посидел два года в следственном изоляторе в Челябинске. Все как обычно: жил-служил-не тужил. Потом отпустили. Мне от этой песни, про Арлекино, ощущение не нравится. Этот смех натужный. Я пока через площадь шёл – три раза послушал. Люди пьяненькие такие … веселенькие. Человеку в городе не хватает тишины. Себя послушать, своё сердце. Что-то всем сердцем полюбить, что-то возненавидеть. Быть целым и мудрым. Совместить в себе змия и голубя.