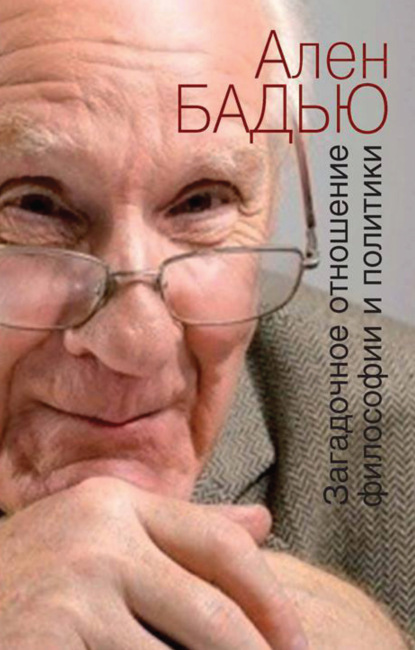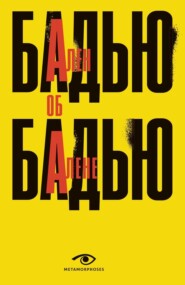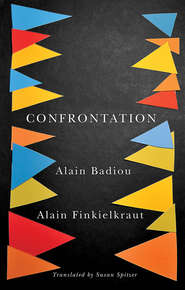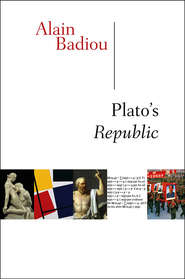По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Загадочное отношение философии и политики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Загадочное отношение философии и политики
Ален Бадью
Современная философская мысль
Загадочность отношения философии и политики в том, что между ними находится третий элемент – демократия. Философия начинается с демократии, но не всегда заканчивается на ней, поскольку требует не релятивизма и не многообразия мнений, а истины, обязательной для всякого разумного существа и ограничивающей, на первый взгляд, пространство демократии. Может быть, демократия важнее философии (как считал Рорти) или же все-таки философия важнее демократии (Платон)? Бадью показывает, что можно выйти из этого тупика, если пойти по пути справедливости
Ален Бадью
Загадочное отношение философии и политики
Alain Badiou
La Relation еnigmatique entre politique et philosophie
Перевод с французского Дмитрий Кралечкин
© Alain Badiou, 2011
© Germina 2011
© ИОИ, 2013
* * *
Первый из текстов этого сборника представляет собой лекцию, прочитанную Аленом Бадью 23 октября 2010 года в рамках «Дней Алена Бадью», которые прошли 22, 23 и 24 октября в Париже в «Эколь Нормаль Сюперьёр» (рю д’Ульм), а также в Кампусе Кордельеров. Затем Ален Бадью решил присоединить к этому текста два других, также прочитанных в виде лекций и дополняющих первый текст: «Фигуру солдата» и «Политику как неэкспрессивную диалектику». Мы выражаем ему наше живейшее признание. В равной мере мы благодарим Изабель Водо (Isabelle Vodoz) за дружескую и во всех отношениях решающую помощь, которая она оказала при работе над этим сборником.
Загадочное отношение философии и политики
Прежде чем приступить к парадоксальному отношению философии и политики, я хотел бы рассмотреть достаточно простой вопрос – о будущем самой философии.
Я начну со ссылки на одного из моих учителей – Луи Альтюссера. По Альтюссеру, рождение марксизма – не нечто простое. Оно зависело от двух революций, двух крупных интеллектуальных событий. Во-первых, от научного события, а именно создания Марксом науки истории, имя которой – «исторический материализм». Второе событие философского толка – это создание Марксом и другими нового течения, называющегося «диалектическим материализмом». Мы можем сказать, что новая философия требуется для прояснения новой науки и помощи при её рождении. Так, философия Платона была затребована появлением математики, философия Канта – физикой Ньютона. Всё довольно просто. В этих рамках можно сформулировать несколько элементарных соображений относительного будущего философии.
Перво-наперво можно сказать, что это будущее зависит, в основном, не от философии и её истории, а от новых фактов в определенных областях, которые сами по себе не имеют философской природы. В частности, от фактов, относящихся к области науки. Такую роль играла математика для Платона, Декарта или Лейбница, физика – для Канта, Уайтхеда или Поппера, история – для Гегеля или Маркса, биология – для Ницше, Бергсона или Делёза.
Я, в свою очередь, совершенно согласен с тем, что философия зависит от определенных нефилософских областей, и я назвал их «условиями» философии. Я хотел бы просто напомнить, что не ограничиваю условия философии становлением науки. Я предлагаю более широкий список условий, относящихся к четырем разным типам – к науке, но также политике, искусству и любви. Так, к примеру, мои работы зависят от нового понятия бесконечности, но также от новых форм революционной политики, от великих поэтических произведений Малларме, Рембо, Пессоа, Мандельштама или Уоллеса Стивенса, прозы Сэмюэля Беккета, от новых форм любви, которые возникли в контексте психоанализа, а также в результате полного преобразования всех вопросов, связанных с сексуацией и «гендером».
Тогда можно было бы сказать, что будущее философии зависит от её способности постепенно приспосабливаться к изменению этих условий. То есть можно сказать, что философия, таким образом, всегда приходит второй, после того, как нефилософская новизна уже состоялась.
Собственно, таким и был вывод Гегеля. Для него философия – это птица мудрости, а птица мудрости – это сова. Но сова вылетает лишь тогда, когда день закончен. Философия – дисциплина, которая приходит после дня познания, опыта, реальной жизни – в самом начале ночи. Очевидно, поставленная нами проблема будущего философии таким образом решена. У нас два варианта. Первый: начнется новый день творческих экспериментов в области науки, политики, искусства и любви, и у нас будет новый вечер для философии. Второй вариант: наша цивилизация себя исчерпала, и мы можем представить лишь мрачное будущее, будущее вечных сумерек. Таким образом, будущее философии будет заключаться в её медленной смерти, медленном умирании в ночи. Философия будет сведена к тому, что мы читаем в начале прекрасного текста Сэмюэля Беккета «Компания»: «В черноте кому-то дается голос». Голос, у которого нет ни значения, ни слушателя.
И действительно, от Гегеля и Огюста Конта до Ницше, Хайдеггера и Деррида, а также у Витгенштейна и Карнапа, мы обнаруживаем философскую идею вероятной смерти философии, во всяком случае, в её классической форме метафизики. Так буду ли я – как записной хулитель господствующей формы нашего времени и решительный критик капитало-парламентаризма – проповедовать конец или непременное преодоление философии? Вам известно, что я занимаю другую позицию. Как раз наоборот, мне важно, чтобы философия, как я говорю в первом «Манифесте философии», сделала «ещё один шаг».
Дело в том, что этот крайне распространенный тезис о смерти философии, постмодернистский тезис о преодолении философии новыми формами интеллектуальности – более смешанными, более разнородными и менее догматичными, отягощен многочисленными проблемами.
Первая, пусть в определенном смысле слишком формальная, выглядит так: идея о конце философии давно стала типично философской идеей. Кроме того, часто это вполне позитивная идея. По Гегелю, философия достигла своего конца, поскольку философия способна понять, что такое абсолютное познание. По Марксу, философия как интерпретация мира может быть заменена конкретной трансформацией того же самого мира. По Ницше, негативная абстракция, которой представляется старая философия, должна быть разрушена ради освобождения жизненного утверждения, большого «Да!», высказанного всему существующему. А по мысли аналитического направления, метафизические фразы, которые являются совершенно бессмысленными, должны быть деконструированы и заменены ясными предложениями и аргументами, подчиняющимися парадигме современной логики.
Во всех этих случаях мы видим, что громкие заявления о смерти философии в целом и метафизики в частности с большой вероятностью являются риторическим приемом, позволяющим указать на новый путь, новую цель в самой философии. Лучший способ сказать «Я – новый философ» – это, вероятно, произнести следующую пафосную речь: «Философия закончена, философия мертва! И я считаю, что с меня начнется нечто совершенно новое. Не философия, но мысль! Не философия, но жизненная сила! Не философия, а новый рациональный язык! То есть, не старая философия, а новая, которая – по удивительному совпадению – оказывается моей философией».
Поэтому возможно, что будущее философии всегда будет сохранять форму воскрешения. Старая философия, как старый человек, умерла, но эта смерть, на самом деле, является рождением нового человека, нового философа.
Однако есть тесная связь между воскрешением и бессмертием, между самым значительным изменением – переходом от смерти к жизни, и наиболее полным отсутствием изменения, обнаруживающимся, как нас захватывает радость спасения.
Возможно, повторение мотива конца философии вместе со связанным с ним и так же повторяющимся мотивом нового начала мысли является знаком фундаментальной неподвижности философии как таковой. Вполне может быть так, что философии необходимо ставить свою преемственность, свою повторимость под знак драматической пары рождения и смерти.
Достигнув этого пункта, мы можем вернуться к работам Альтюссера. Ведь Альтюссер, утверждая, что философия зависит от науки, говорит в то же время нечто весьма странное, а именно, что у философии вообще нет истории, что она всегда – одно и то же. В этом случае проблема будущего философии проста: её будущее – это её прошлое.
Только представьте себе: вот Альтюссер, великий марксист, ставший последним защитником старой схоластической концепции philosophia perennis, то есть философии как чистого повторения того же самого, философии в стиле Ницше – как вечного возвращения того же самого.
Но что представляет это «то же самое»? В чем заключается эта тождественность того же самого, которая равноценна антиисторической судьбе философии? Этот вопрос, очевидно, возвращает нас к старой дискуссии об истинной природе философии. Известно, в целом, два основных направления. Согласно первому, философия – это, по существу, рефлексивное познание. Познание истин в теоретической области, познание ценностей в области практической. И в этом случае нам надо организовать обучение и передачу этих двух фундаментальных форм знания. Следовательно, форма, подходящая философии, – это форма школы. Философ – это профессор, как Кант, Гегель, Гуссерль, Хайдеггер и многие другие, включая меня самого. Он организует рациональную передачу и обсуждение вопросов, связанных с истиной и ценностями. На самом деле, именно философия во времена греков изобрела саму форму Школы.
Вторая возможность – в том, что философия, на самом деле, не является познанием – ни теоретическим, ни практическим. Она состоит в прямом преобразовании субъекта, то есть это вид радикального обращения, полное перевертывание существования. Следовательно, она весьма близка к религии, хотя её средства исключительно рациональны; она весьма близка к любви, но не опирается на силу желания; очень близка к участию в политической борьбе, но не ограничена необходимостью централизованной организации; не менее близка к художественному творению, хотя не имеет чувственных инструментов искусства; и столь же близка к научному познанию, хотя и не обладает формализмом математики или эмпирическими и техническими инструментами физики. Согласно этому второму направлению, философия – не обязательно то, что относится к школе, ученичеству, передаче и профессорам. Это свободное обращение одного к кому-то другому. Так Сократ говорил с юношами на улицах Афин, Декарт писал письма принцессе Елизавете, а Жан-Жак Руссо писал свою «Исповедь»; это то же, что стихотворения Ницше, романы и пьесы Жана-Поля Сартра и, если вы позволите мне такой нарциссический жест, мои собственные театральные произведения и романы, как и утвердительный, воинственный стиль, который, я думаю, питает мои философские тексты, даже наиболее сложные.
Иначе говоря: можно понимать философию, если использовать термины Лакана, как форму дискурса Университета, дело профессоров и учеников в рационально организованных институтах. Это вечная схоластическая позиция Аристотеля. Или же её можно понимать как наиболее радикальную форму дискурса Господина, дело личного участия, в котором первым шагом идет воинственное утверждение (в частности – против софистов и ученого сомнения, которым чествует себя Университет).
В соответствии с этим вторым взглядом на вещи, философия – не познание и даже не познание познания. Это действие. Можно было бы сказать, что философия определяется не правилами дискурса, а единичностью акта. Именно этот акт враги Сократа назвали «развращением молодежи». И, как Вы знаете, из-за него Сократ и был осужден на смерть. «Развращать молодежь» – это, в общем, весьма подходящее наименование философского акта. При условии, что мы правильно понимаем, что значит «развращать». «Развращать», в данном случае, означает учить возможности отказаться от всякого слепого повиновения установленным мнениям. Развращать – значит давать молодежи определенные средства, позволяющие изменить мнения относительно социальных норм, заменить дискуссией и рациональной критикой подражание и одобрение и даже, если поднимать принципиальный вопрос, заменить восстанием подчинение. Но такое восстание не является ни спонтанным, ни агрессивным, поскольку оно вытекает из принципов и критики, предложенных для всеобщего обсуждения.
В стихотворениях Рембо встречается странное выражение – «логические восстания». Наверно, это хорошее определение философского акта. И не случайно, что мой старый друг-враг, замечательный философ Жак Рансьер, создал в 1970-х годах важный журнал, который как раз так и назывался – «Логические восстания».
Но если подлинная сущность философии – быть актом, мы можем лучше понять причину, по которой, с точки зрения Луи Альтюссера, не существует настоящей истории философии. В своих собственных работах Альтюссер предлагает говорить, что действующая функция философии – разделять мнения. И, если точнее, разделять мнения о научном познании или, говоря в целом, разделять сами теоретические формы деятельности.
Что это за разделение? В конечном счете, это разделение на материализм и идеализм. Как марксист, Альтюссер считал, что материализм – это революционная рамка теоретической деятельности, тогда как идеализм – консервативная. Его конечное определение выглядело так: философия – это своеобразная политическая борьба в теоретическом поле.
Но независимо от этого марксистского вывода мы можем сделать два замечания.
1) Философский акт всегда выступает в форме определенного решения, отделения, четкого различия. Между знанием и мнением, между правильными мнениями и ложными, между истиной и ложью, между Богом и Злом, между мудростью и безумием, между утвердительной позицией и чисто критической, и т. д.
2) У философского акта всегда есть нормативная сторона. Разделение – это ещё и иерархия. В случае марксизма хороший термин – это материализм, а плохой – это идеализм. Однако, в целом, можно заметить, что разделение, проводимое в понятиях или в опыте, на деле всегда является способом навязать, особенно молодежи, новую иерархию. И, если говорить о негативных сторонах, результатом будет интеллектуальное крушение установленного порядка и старой иерархии.
То есть мы находим в философии некий инвариант, нечто вроде влечения к повторению или вечного возвращения того же самого. Но эта неизменность относится к порядку действия, а не познания. Это субъективность, для которой знание во всех его формах – лишь одно средство из многих.
Философия – это акт реорганизации всех видов теоретического и практического опыта за счет предложения нового большого нормативного разделения, которое подрывает установленный интеллектуальный порядок и обещает новые ценности, превосходящие общепринятые. Форма всего этого – это более или менее свободное обращение к каждому, но прежде всего к молодежи; поскольку философ отлично понимает, что именно молодым людям надо определиться в жизни и что чаще им проще пойти на риск логического восстания.
Все это объясняет, почему философия в определенной мере всегда оказывается одним и тем же. Конечно, всякий философ думает, что его творчество – совершенно новое. Это по-человечески понятно. Многие историки философии показывали наличие абсолютных разрывов. Например, после Декарта очевидно, что метафизика должна принимать за образец своей рациональной конструкции современную науку. После Кант заявляют, что классическая метафизика больше невозможна. А после Витгенштейна запрещается забывать о том, что изучение языка – сердце философии. Таким образом, мы получаем рационалистический поворот, критический и языковой. Но, на самом деле, в философии нет ничего необратимого. Нет абсолютного поворота. Многие философы могут сегодня находить у Платона или Лейбница более интересные и стимулирующие их моменты, чем похожие, казалось бы, по своей силе моменты у Хайдеггера или Витгенштейна. Дело в том, что их собственная матрица в значительной степени совпадает с матрицей Платона или Лейбница. Лишь тот факт, что философия – это повторение её акта, проясняет наличие внутреннего родства между философами. Делёз с Лейбницем и Спинозой; Сартр с Декартом и Гегелем; Мерло-Понти с Бергсоном и Аристотелем; я с Платоном и Гегелем; Славой Жижек с Кантом и Шеллингом. И, возможно, в течение трех тысяч лет все со всеми.
Однако, если философский факт формально остается тем же самым, являясь возвращением того же самого, необходимо объяснить изменение исторического контекста. Поскольку акт совершается в разных условиях. Когда философ предлагает новое разделение или новую иерархию для опыта своего времени, дело в том, что недавно проявило себя новое интеллектуальное творение, новая истина. То есть, с его точки зрения, мы должны принять последствия нового события в реальных условиях философии.
Несколько примеров. Платон предложил разделение между чувственным и умопостигаемым в условиях геометрии Евдокса и постпифагорейского понятия числа и меры. Гегель ввел историю и становление в абсолютную Идею под влиянием поразившей его новизны Французской революции. Ницше разработал диалектическое отношение между греческой трагедией и рождением философии на фоне сумбура чувств, вызванного в нем открытием музыкальной драмы Вагнера. А Деррида преобразовал классический подход к жестким метафизическим оппозициям – в значительной части по причине растущей и неустранимой значимости в нашем опыте их женского аспекта.
Вот почему мы можем, в конечном счете, говорить о творческом повторении. Есть нечто инвариантное в форме жеста, жеста разделения. Но существует также необходимость изменять некоторые аспекты философского жеста под давлением определенных обстоятельств и их последствий. То есть у нас есть форма, и, с другой стороны, у нас есть изменчивая форма этой единой формы. Вот почему мы четко распознаем философов и философии, несмотря на их огромные различия и бурные конфликты. Кант сказал, что история философии – это поле битвы. И он был совершенно прав. Но это также повторение одной и той же битвы на одном и том же поле. Здесь может пригодиться музыкальный пример. Становление философии осуществляется в соответствии с классической формой темы и вариаций. Повторение – это тема, а постоянная новизна – вариации.
И всё это происходит после определенных событий политики, искусства, науки, любви – событий, которые задали необходимость новой вариации на ту же тему. Таким образом, гегелевский тезис в определенном смысле истинен. Совершенно верно то, что мы, философы, работаем ночью, после дня подлинного становления новой истины. Мне вспоминается блистательное стихотворение Уоллеса Стивенса, название которого – «Человек, несущий вещь» – напоминает название картины. Стивенс пишет: «Мы должны терпеть наши мысли в течение всей ночи». Увы, такова судьба философов и философии. Он продолжает: «До того момента, как сверкающая очевидность восстанет, застыв в холоде». Да, мы верим и надеемся, что однажды «сверкающая очевидность» восстанет, застыв в звездном холоде своей предельной формы. Это будет последняя стадия философии, абсолютная Идея, полное откровение. Но это не происходит. Напротив, когда в дне живых истин нечто случается, мы должны повторить философский акт и создать новую вариацию.
Таким образом, будущее философии является, как и её прошлое, творческим повторением. И нам всегда придется терпеть наши мысли в течение всей ночи.
Из этих ночных мыслей ни одна, без сомнений, не важна нам сегодня больше, чем мысль, составляющая единый узел с политическим условием. И причина проста: политика сама находится, по большому счету, в положении ночи мышления. Однако философ, который не может смириться с тем, чтобы его собственное ночное положение было следствием ночи конкретных истин, пытается разглядеть вдалеке, на горизонте, проблески предвестий. Этим он напоминает Дозорного в самом начале «Агамемнона» Эсхила:
«Год уже в дозоре я,
Лежу на крыше, словно верный пес
цепной.
Познал я звезд полночные собрания,
Ален Бадью
Современная философская мысль
Загадочность отношения философии и политики в том, что между ними находится третий элемент – демократия. Философия начинается с демократии, но не всегда заканчивается на ней, поскольку требует не релятивизма и не многообразия мнений, а истины, обязательной для всякого разумного существа и ограничивающей, на первый взгляд, пространство демократии. Может быть, демократия важнее философии (как считал Рорти) или же все-таки философия важнее демократии (Платон)? Бадью показывает, что можно выйти из этого тупика, если пойти по пути справедливости
Ален Бадью
Загадочное отношение философии и политики
Alain Badiou
La Relation еnigmatique entre politique et philosophie
Перевод с французского Дмитрий Кралечкин
© Alain Badiou, 2011
© Germina 2011
© ИОИ, 2013
* * *
Первый из текстов этого сборника представляет собой лекцию, прочитанную Аленом Бадью 23 октября 2010 года в рамках «Дней Алена Бадью», которые прошли 22, 23 и 24 октября в Париже в «Эколь Нормаль Сюперьёр» (рю д’Ульм), а также в Кампусе Кордельеров. Затем Ален Бадью решил присоединить к этому текста два других, также прочитанных в виде лекций и дополняющих первый текст: «Фигуру солдата» и «Политику как неэкспрессивную диалектику». Мы выражаем ему наше живейшее признание. В равной мере мы благодарим Изабель Водо (Isabelle Vodoz) за дружескую и во всех отношениях решающую помощь, которая она оказала при работе над этим сборником.
Загадочное отношение философии и политики
Прежде чем приступить к парадоксальному отношению философии и политики, я хотел бы рассмотреть достаточно простой вопрос – о будущем самой философии.
Я начну со ссылки на одного из моих учителей – Луи Альтюссера. По Альтюссеру, рождение марксизма – не нечто простое. Оно зависело от двух революций, двух крупных интеллектуальных событий. Во-первых, от научного события, а именно создания Марксом науки истории, имя которой – «исторический материализм». Второе событие философского толка – это создание Марксом и другими нового течения, называющегося «диалектическим материализмом». Мы можем сказать, что новая философия требуется для прояснения новой науки и помощи при её рождении. Так, философия Платона была затребована появлением математики, философия Канта – физикой Ньютона. Всё довольно просто. В этих рамках можно сформулировать несколько элементарных соображений относительного будущего философии.
Перво-наперво можно сказать, что это будущее зависит, в основном, не от философии и её истории, а от новых фактов в определенных областях, которые сами по себе не имеют философской природы. В частности, от фактов, относящихся к области науки. Такую роль играла математика для Платона, Декарта или Лейбница, физика – для Канта, Уайтхеда или Поппера, история – для Гегеля или Маркса, биология – для Ницше, Бергсона или Делёза.
Я, в свою очередь, совершенно согласен с тем, что философия зависит от определенных нефилософских областей, и я назвал их «условиями» философии. Я хотел бы просто напомнить, что не ограничиваю условия философии становлением науки. Я предлагаю более широкий список условий, относящихся к четырем разным типам – к науке, но также политике, искусству и любви. Так, к примеру, мои работы зависят от нового понятия бесконечности, но также от новых форм революционной политики, от великих поэтических произведений Малларме, Рембо, Пессоа, Мандельштама или Уоллеса Стивенса, прозы Сэмюэля Беккета, от новых форм любви, которые возникли в контексте психоанализа, а также в результате полного преобразования всех вопросов, связанных с сексуацией и «гендером».
Тогда можно было бы сказать, что будущее философии зависит от её способности постепенно приспосабливаться к изменению этих условий. То есть можно сказать, что философия, таким образом, всегда приходит второй, после того, как нефилософская новизна уже состоялась.
Собственно, таким и был вывод Гегеля. Для него философия – это птица мудрости, а птица мудрости – это сова. Но сова вылетает лишь тогда, когда день закончен. Философия – дисциплина, которая приходит после дня познания, опыта, реальной жизни – в самом начале ночи. Очевидно, поставленная нами проблема будущего философии таким образом решена. У нас два варианта. Первый: начнется новый день творческих экспериментов в области науки, политики, искусства и любви, и у нас будет новый вечер для философии. Второй вариант: наша цивилизация себя исчерпала, и мы можем представить лишь мрачное будущее, будущее вечных сумерек. Таким образом, будущее философии будет заключаться в её медленной смерти, медленном умирании в ночи. Философия будет сведена к тому, что мы читаем в начале прекрасного текста Сэмюэля Беккета «Компания»: «В черноте кому-то дается голос». Голос, у которого нет ни значения, ни слушателя.
И действительно, от Гегеля и Огюста Конта до Ницше, Хайдеггера и Деррида, а также у Витгенштейна и Карнапа, мы обнаруживаем философскую идею вероятной смерти философии, во всяком случае, в её классической форме метафизики. Так буду ли я – как записной хулитель господствующей формы нашего времени и решительный критик капитало-парламентаризма – проповедовать конец или непременное преодоление философии? Вам известно, что я занимаю другую позицию. Как раз наоборот, мне важно, чтобы философия, как я говорю в первом «Манифесте философии», сделала «ещё один шаг».
Дело в том, что этот крайне распространенный тезис о смерти философии, постмодернистский тезис о преодолении философии новыми формами интеллектуальности – более смешанными, более разнородными и менее догматичными, отягощен многочисленными проблемами.
Первая, пусть в определенном смысле слишком формальная, выглядит так: идея о конце философии давно стала типично философской идеей. Кроме того, часто это вполне позитивная идея. По Гегелю, философия достигла своего конца, поскольку философия способна понять, что такое абсолютное познание. По Марксу, философия как интерпретация мира может быть заменена конкретной трансформацией того же самого мира. По Ницше, негативная абстракция, которой представляется старая философия, должна быть разрушена ради освобождения жизненного утверждения, большого «Да!», высказанного всему существующему. А по мысли аналитического направления, метафизические фразы, которые являются совершенно бессмысленными, должны быть деконструированы и заменены ясными предложениями и аргументами, подчиняющимися парадигме современной логики.
Во всех этих случаях мы видим, что громкие заявления о смерти философии в целом и метафизики в частности с большой вероятностью являются риторическим приемом, позволяющим указать на новый путь, новую цель в самой философии. Лучший способ сказать «Я – новый философ» – это, вероятно, произнести следующую пафосную речь: «Философия закончена, философия мертва! И я считаю, что с меня начнется нечто совершенно новое. Не философия, но мысль! Не философия, но жизненная сила! Не философия, а новый рациональный язык! То есть, не старая философия, а новая, которая – по удивительному совпадению – оказывается моей философией».
Поэтому возможно, что будущее философии всегда будет сохранять форму воскрешения. Старая философия, как старый человек, умерла, но эта смерть, на самом деле, является рождением нового человека, нового философа.
Однако есть тесная связь между воскрешением и бессмертием, между самым значительным изменением – переходом от смерти к жизни, и наиболее полным отсутствием изменения, обнаруживающимся, как нас захватывает радость спасения.
Возможно, повторение мотива конца философии вместе со связанным с ним и так же повторяющимся мотивом нового начала мысли является знаком фундаментальной неподвижности философии как таковой. Вполне может быть так, что философии необходимо ставить свою преемственность, свою повторимость под знак драматической пары рождения и смерти.
Достигнув этого пункта, мы можем вернуться к работам Альтюссера. Ведь Альтюссер, утверждая, что философия зависит от науки, говорит в то же время нечто весьма странное, а именно, что у философии вообще нет истории, что она всегда – одно и то же. В этом случае проблема будущего философии проста: её будущее – это её прошлое.
Только представьте себе: вот Альтюссер, великий марксист, ставший последним защитником старой схоластической концепции philosophia perennis, то есть философии как чистого повторения того же самого, философии в стиле Ницше – как вечного возвращения того же самого.
Но что представляет это «то же самое»? В чем заключается эта тождественность того же самого, которая равноценна антиисторической судьбе философии? Этот вопрос, очевидно, возвращает нас к старой дискуссии об истинной природе философии. Известно, в целом, два основных направления. Согласно первому, философия – это, по существу, рефлексивное познание. Познание истин в теоретической области, познание ценностей в области практической. И в этом случае нам надо организовать обучение и передачу этих двух фундаментальных форм знания. Следовательно, форма, подходящая философии, – это форма школы. Философ – это профессор, как Кант, Гегель, Гуссерль, Хайдеггер и многие другие, включая меня самого. Он организует рациональную передачу и обсуждение вопросов, связанных с истиной и ценностями. На самом деле, именно философия во времена греков изобрела саму форму Школы.
Вторая возможность – в том, что философия, на самом деле, не является познанием – ни теоретическим, ни практическим. Она состоит в прямом преобразовании субъекта, то есть это вид радикального обращения, полное перевертывание существования. Следовательно, она весьма близка к религии, хотя её средства исключительно рациональны; она весьма близка к любви, но не опирается на силу желания; очень близка к участию в политической борьбе, но не ограничена необходимостью централизованной организации; не менее близка к художественному творению, хотя не имеет чувственных инструментов искусства; и столь же близка к научному познанию, хотя и не обладает формализмом математики или эмпирическими и техническими инструментами физики. Согласно этому второму направлению, философия – не обязательно то, что относится к школе, ученичеству, передаче и профессорам. Это свободное обращение одного к кому-то другому. Так Сократ говорил с юношами на улицах Афин, Декарт писал письма принцессе Елизавете, а Жан-Жак Руссо писал свою «Исповедь»; это то же, что стихотворения Ницше, романы и пьесы Жана-Поля Сартра и, если вы позволите мне такой нарциссический жест, мои собственные театральные произведения и романы, как и утвердительный, воинственный стиль, который, я думаю, питает мои философские тексты, даже наиболее сложные.
Иначе говоря: можно понимать философию, если использовать термины Лакана, как форму дискурса Университета, дело профессоров и учеников в рационально организованных институтах. Это вечная схоластическая позиция Аристотеля. Или же её можно понимать как наиболее радикальную форму дискурса Господина, дело личного участия, в котором первым шагом идет воинственное утверждение (в частности – против софистов и ученого сомнения, которым чествует себя Университет).
В соответствии с этим вторым взглядом на вещи, философия – не познание и даже не познание познания. Это действие. Можно было бы сказать, что философия определяется не правилами дискурса, а единичностью акта. Именно этот акт враги Сократа назвали «развращением молодежи». И, как Вы знаете, из-за него Сократ и был осужден на смерть. «Развращать молодежь» – это, в общем, весьма подходящее наименование философского акта. При условии, что мы правильно понимаем, что значит «развращать». «Развращать», в данном случае, означает учить возможности отказаться от всякого слепого повиновения установленным мнениям. Развращать – значит давать молодежи определенные средства, позволяющие изменить мнения относительно социальных норм, заменить дискуссией и рациональной критикой подражание и одобрение и даже, если поднимать принципиальный вопрос, заменить восстанием подчинение. Но такое восстание не является ни спонтанным, ни агрессивным, поскольку оно вытекает из принципов и критики, предложенных для всеобщего обсуждения.
В стихотворениях Рембо встречается странное выражение – «логические восстания». Наверно, это хорошее определение философского акта. И не случайно, что мой старый друг-враг, замечательный философ Жак Рансьер, создал в 1970-х годах важный журнал, который как раз так и назывался – «Логические восстания».
Но если подлинная сущность философии – быть актом, мы можем лучше понять причину, по которой, с точки зрения Луи Альтюссера, не существует настоящей истории философии. В своих собственных работах Альтюссер предлагает говорить, что действующая функция философии – разделять мнения. И, если точнее, разделять мнения о научном познании или, говоря в целом, разделять сами теоретические формы деятельности.
Что это за разделение? В конечном счете, это разделение на материализм и идеализм. Как марксист, Альтюссер считал, что материализм – это революционная рамка теоретической деятельности, тогда как идеализм – консервативная. Его конечное определение выглядело так: философия – это своеобразная политическая борьба в теоретическом поле.
Но независимо от этого марксистского вывода мы можем сделать два замечания.
1) Философский акт всегда выступает в форме определенного решения, отделения, четкого различия. Между знанием и мнением, между правильными мнениями и ложными, между истиной и ложью, между Богом и Злом, между мудростью и безумием, между утвердительной позицией и чисто критической, и т. д.
2) У философского акта всегда есть нормативная сторона. Разделение – это ещё и иерархия. В случае марксизма хороший термин – это материализм, а плохой – это идеализм. Однако, в целом, можно заметить, что разделение, проводимое в понятиях или в опыте, на деле всегда является способом навязать, особенно молодежи, новую иерархию. И, если говорить о негативных сторонах, результатом будет интеллектуальное крушение установленного порядка и старой иерархии.
То есть мы находим в философии некий инвариант, нечто вроде влечения к повторению или вечного возвращения того же самого. Но эта неизменность относится к порядку действия, а не познания. Это субъективность, для которой знание во всех его формах – лишь одно средство из многих.
Философия – это акт реорганизации всех видов теоретического и практического опыта за счет предложения нового большого нормативного разделения, которое подрывает установленный интеллектуальный порядок и обещает новые ценности, превосходящие общепринятые. Форма всего этого – это более или менее свободное обращение к каждому, но прежде всего к молодежи; поскольку философ отлично понимает, что именно молодым людям надо определиться в жизни и что чаще им проще пойти на риск логического восстания.
Все это объясняет, почему философия в определенной мере всегда оказывается одним и тем же. Конечно, всякий философ думает, что его творчество – совершенно новое. Это по-человечески понятно. Многие историки философии показывали наличие абсолютных разрывов. Например, после Декарта очевидно, что метафизика должна принимать за образец своей рациональной конструкции современную науку. После Кант заявляют, что классическая метафизика больше невозможна. А после Витгенштейна запрещается забывать о том, что изучение языка – сердце философии. Таким образом, мы получаем рационалистический поворот, критический и языковой. Но, на самом деле, в философии нет ничего необратимого. Нет абсолютного поворота. Многие философы могут сегодня находить у Платона или Лейбница более интересные и стимулирующие их моменты, чем похожие, казалось бы, по своей силе моменты у Хайдеггера или Витгенштейна. Дело в том, что их собственная матрица в значительной степени совпадает с матрицей Платона или Лейбница. Лишь тот факт, что философия – это повторение её акта, проясняет наличие внутреннего родства между философами. Делёз с Лейбницем и Спинозой; Сартр с Декартом и Гегелем; Мерло-Понти с Бергсоном и Аристотелем; я с Платоном и Гегелем; Славой Жижек с Кантом и Шеллингом. И, возможно, в течение трех тысяч лет все со всеми.
Однако, если философский факт формально остается тем же самым, являясь возвращением того же самого, необходимо объяснить изменение исторического контекста. Поскольку акт совершается в разных условиях. Когда философ предлагает новое разделение или новую иерархию для опыта своего времени, дело в том, что недавно проявило себя новое интеллектуальное творение, новая истина. То есть, с его точки зрения, мы должны принять последствия нового события в реальных условиях философии.
Несколько примеров. Платон предложил разделение между чувственным и умопостигаемым в условиях геометрии Евдокса и постпифагорейского понятия числа и меры. Гегель ввел историю и становление в абсолютную Идею под влиянием поразившей его новизны Французской революции. Ницше разработал диалектическое отношение между греческой трагедией и рождением философии на фоне сумбура чувств, вызванного в нем открытием музыкальной драмы Вагнера. А Деррида преобразовал классический подход к жестким метафизическим оппозициям – в значительной части по причине растущей и неустранимой значимости в нашем опыте их женского аспекта.
Вот почему мы можем, в конечном счете, говорить о творческом повторении. Есть нечто инвариантное в форме жеста, жеста разделения. Но существует также необходимость изменять некоторые аспекты философского жеста под давлением определенных обстоятельств и их последствий. То есть у нас есть форма, и, с другой стороны, у нас есть изменчивая форма этой единой формы. Вот почему мы четко распознаем философов и философии, несмотря на их огромные различия и бурные конфликты. Кант сказал, что история философии – это поле битвы. И он был совершенно прав. Но это также повторение одной и той же битвы на одном и том же поле. Здесь может пригодиться музыкальный пример. Становление философии осуществляется в соответствии с классической формой темы и вариаций. Повторение – это тема, а постоянная новизна – вариации.
И всё это происходит после определенных событий политики, искусства, науки, любви – событий, которые задали необходимость новой вариации на ту же тему. Таким образом, гегелевский тезис в определенном смысле истинен. Совершенно верно то, что мы, философы, работаем ночью, после дня подлинного становления новой истины. Мне вспоминается блистательное стихотворение Уоллеса Стивенса, название которого – «Человек, несущий вещь» – напоминает название картины. Стивенс пишет: «Мы должны терпеть наши мысли в течение всей ночи». Увы, такова судьба философов и философии. Он продолжает: «До того момента, как сверкающая очевидность восстанет, застыв в холоде». Да, мы верим и надеемся, что однажды «сверкающая очевидность» восстанет, застыв в звездном холоде своей предельной формы. Это будет последняя стадия философии, абсолютная Идея, полное откровение. Но это не происходит. Напротив, когда в дне живых истин нечто случается, мы должны повторить философский акт и создать новую вариацию.
Таким образом, будущее философии является, как и её прошлое, творческим повторением. И нам всегда придется терпеть наши мысли в течение всей ночи.
Из этих ночных мыслей ни одна, без сомнений, не важна нам сегодня больше, чем мысль, составляющая единый узел с политическим условием. И причина проста: политика сама находится, по большому счету, в положении ночи мышления. Однако философ, который не может смириться с тем, чтобы его собственное ночное положение было следствием ночи конкретных истин, пытается разглядеть вдалеке, на горизонте, проблески предвестий. Этим он напоминает Дозорного в самом начале «Агамемнона» Эсхила:
«Год уже в дозоре я,
Лежу на крыше, словно верный пес
цепной.
Познал я звезд полночные собрания,