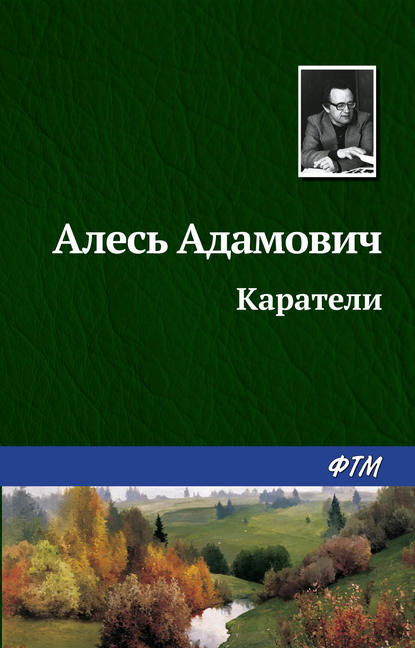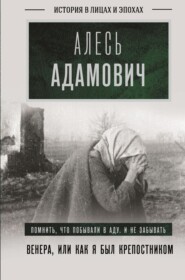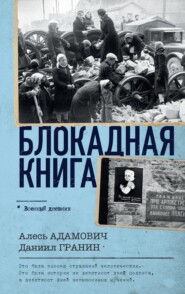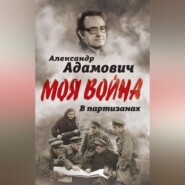По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Каратели
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что я, я на виду, не прячусь, а вот ваши парти-и-заны!.. А ты, борода, что в банду не пошел? Или ты и дома и замужем?
– Мне и дома добра!
Ого, гневается уже, интересно!
– Ну, а в полицию почему? Что ж не записался?
Сказать ему нечего. Зато румяная молодка не молчит, голосок не пропал еще.
– Какая тут в Борках полиция? Смех один! Только где самогонка, там они. А как ночь, попрячутся. Придет к тебе и сидит сычом у окна, никого даже до ветру не выпускает. Это он боится, что… этих самых приведут. Ну, партизан. А кому он нужен такой?!
– И верно, сидит квашней всю ночь, когда такая молодица в хате! Я бы сам его бандитам отдал, как дурную собаку волку.
Что это я тяну сегодня, как никогда? Назло тому лягушатнику? Пусть помучится: а вдруг раздумаю брать его сало!.. Разговорился с бандитами. В полицию их уговариваю. Ишь смотрят: ничего не знаем, ничего не ведаем! Зато мы ведаем… Печка хорошо просматривается, если на сундук встать. Но их там, на этом сундуке, десяток: мокро будет и скользко. Смотрят, малым даже интересно, что этот дядька тут ходит и усмехается… А что, и правда уйди! Кому я что должен? Сало? Так я и без тебя найду, если очень захочу. Просто хотел вам показать, кто чего стоит. Только звание одно, что француз или австрияк, а как до дела доходит – сачки, ничуть не лучше моего Доброскока!
– Может, и правда хлеба хотите? Свеженький!
Она как подслушала – беленькая хозяйка, голосок зазвенел, готова уже дитя соседке передать, чтобы бежать, вынимать хлеб из печи. Но нет, еще сильнее прижала, чтобы оно не смотрело никуда, а к печи посылает другую:
– Феня, ты там ближе, достань и дай человеку. Хоть весь.
Ишь ты, беленькая, худенькая, все чувствует. Боится выводок свой, гнездо открыть. А Феню посылает проверить, как бы в разведку. Разрешу или не разрешу идти к порогу…
– Я сам возьму, не надо!
Когда-то сидел на пороге, не мог переползти, так ударил в голову хлебный дух, сидел и плакал, а старуха все возилась у темной печи, из миски брызгала водой на горячие буханки, круглые, большие, близкие и уговаривала: «Не съем же я одна, и тебе дам, только обожди, а то спячэцце живот и спруцянеешь, як тут учора один…»
– Ой, детки, что это они? – маленькая старуха так и влипла в окно, даже вазон слетел на пол и горшочек с землей разбился. – Они же людей стреляют! Они же людей!
Ну, так и знал! Какой-нибудь олух обязательно что-нибудь да испортит. Пожалуйста, кино устроили напротив окна! Работай на дураков, а они во что вытворяют. Двое в касках, похоже, что немцы, подняли на огороде бабу с детьми, с целым выводком, и нет чтобы завести в хату или хотя бы в сарай, так они тут же их стреляют. Стоят рядышком, как на плацу, и в упор, в упор, из винтовок, прямо в кучу, и хотя бы ее первую, чтобы не кричала так…
– Ой-ой! – Не там, тут, в хате уже крик. – Что же вы это робите, что ж вы это?!
Ну, все пропало, теперь начнется! Дядька вскочил на ноги. Он услышал, как Тупигин затвор клацнул, и вдруг закричал, выкатывая глаза:
– Ну, меня стреляй! Меня! Я, может, и правда – партизан! А их, детей, за что? Кто вы, вы люди или кто вы?..
Сейчас поймешь, если спрашиваешь! Спокойно, спокойно…
Тело пулемета назад рванулось – как бы и он испугался. Дядьку отбросило, он толкнул табурет, налетел на него, упал, борется с ним, долго, слишком долго, забирая на себя очередь, которую надо бы уже поднять на кровать, тянуть через сундук, но и поднимать поздно, они уже кто где, рассыпались, к полу приникли, а дядька все дергается – теперь на всех не хватит, так и знал, что помешает что-то, не бывает никогда, чтобы без фокусов, а еще этот дурень диски утащил, вот на кого не жалко последний патрон потратить!.. Пулемет сам ушел на кровать, выворачивает руки, шеи, краской брызгает на стены, отыскал тех, что на сундуке и рядом, на полу, а стол мешает, не дает пройти, чтобы видеть всю печь, и те, что на полу, у ног, мешают, страшно отдавать им ноги, но дотянул и до печи, во-от, дотяну-у-ул, та-ак, получай и ты, ве-едь-ма, получай, посмотрим, какая из тебя броня, кого ты закроешь, спрячешь. Не о-чень спрячешь!.. Сколько в ней соку, печка враз стала красная – плывет сверху…
Грохот оборвался, а эхо ревет внутри. Булькает кругом, хлюпает, может, они и дышат, конечно, дышат те, что под кроватью да на полу, но это уже француза дело. Хлеб только забрать, а то сгорит… Горячий, сволочь, кусается! Пошли, дурачок, а то сгоришь на уголь вместе с ними!..
Поселок первый
11 часов 51 минута по берлинскому времени
Она открыла глаза, чтобы только не видеть мертвую маму и это черное зеркало. Солнце стояло над ямой из-под картошки, било мертвым в глаза, и она не увидела, что над ямой стоит толстый усатый немец и перезаряжает автомат.
Возможно, ей только показалось, что она открыла глаза: слепящее солнце проникало в глаза сквозь красноту закрытых век.
* * *
…Я держу яркое кругленькое зеркальце близко к глазам, оно нагрелось на подоконнике, вижу свои красные-красные губы, запретно пахнущие маминой помадой, делаю ими «поцелуи», жадные и стыдные. Я на кухне, я стою почему-то на коленях, как бабушка по утрам перед иконой. Нет, я знаю, почему я это делаю. Потому что это стыдно. Если бы кто увидел, мне бы оставалось только умереть. А от этого мне, бесстыжей, почему-то сладко, приятно, как никогда. Было бы ужасно, если бы мама или отец вдруг заглянули сюда, за ширму, а я на коленях и с зеркалом. Пахнет коровьим пойлом, пареной картошкой – у меня перед глазами грязные ведра, большой ушат. Мы, как все на бобруйских окраинах, держим «хозяйство». Стою на коленях, губы накрашены, а я крещусь рукой, как наша бабушка, бывало, – я умерла бы, мне уже не жить, если бы сейчас меня такую увидели! Не зеркальце это, а иконка, круглая, маленькая – осталась в нашем доме от бабушки. Когда бабушка жива была, большая икона-картина висела в углу, над ее кроватью, а потом ее сняли и куда-то кому-то отдали. А вот эта кругленькая сохранилась. Бабушкиных слов я не знаю, но мои красные бесстыжие губы шепчут их, шепчут. Запретные, сладкие губы, запретные слова!.. Вот так и мама облизывает губы, когда накрасит их, собираясь с отцом в гости. Задумчиво и красиво обминает их. Отец сзади подойдет (она видит его в зеркале) и положит руку на плечо, пальцами трогает ее шею – они улыбаются так, словно никого на свете нет, даже меня, а только они. Маме неловко и хорошо – как мне сейчас. Она обязательно снимет его руку: «Не мешай, опоздаем». – «Ну и давай опоздаем!» – «Ваня, у тебя одни глупости…» Я здесь за ширмой, а они в другой комнате, но я почему-то их вижу и не удивляюсь этому. Значит, я сплю? Почему я не удивляюсь? Губы от помады чужие, огромные, и так пахнет сеном, коровьим навозом, молоком. Что я делаю, зачем я здесь?.. Сейчас войдут, и я умру от стыда! Коровьим теплом сладко пахнет, навозом, а мы с Гришей наверху, на чердаке – на сене лежим. Под нами задумчиво жует жвачку корова, одиноко и смешно вздыхает как большой пустой мех, и имя у нее смешное, с таким и купили ее – Книга. «Вы с коровой одинаково дышите», – я смеюсь, закрываю ему рот губами, чтобы успокоился, побыл спокойно минутку. Его лицо прямо над моим, нетерпеливое, просяще-детское, такое глупое. Я крепко держу его руки, отдаю ему накрашенные губы, забираю себе его дыхание, смеюсь, а мне сладко и страшно… По солнечному лучу пулей врываются в сарай ласточки, припадают к черному, еще сырому домику, целуют его и уносятся, прочищая клювик укоряющим чириканьем: «Чем здесь лежать!..» Не закончит, бессовестная, и умчится за новой порцией грязи.
– Родненькая! Родненькая!
Он шепчет, задыхаясь, умоляя и стыдясь сказать, он боится моего счастливого смеха. Он думает, что я над ним смеюсь. А я от страха, потому что я уже знаю. Все уже было у нас. Уже было. Я тоже долго не знала, не догадывалась, и вдруг поняла: было, мы с ним как муж с женой, мы с ним живем! А нам все казалось, что будет еще что-то, я его (и себя) так мучила стыдом и страхом, мешала ему и себе, и за этим не заметили, что уже все было. Но я вдруг поняла, а он еще не знает. Как бы тоже испугался и обрадовался, если бы и он понял, что мы уже мужчина и женщина, что мы уже!.. Кислый запах любви, стыдный… Или это из-за ширмы? Нет, снизу, где корова. Из ямы… Из какой ямы? О чем я? Где я?…
Мне страшно, что кто-то под нами есть, кто-то дышит там, вздыхает… Но это же корова, я знаю, наша Книга! Но почему такое жуткое это ее дыхание? А если это сон только, и я не здесь, и Гриши нет со мной, и что-то происходит там, куда улетают ласточки? Я знаю. Я все уже знаю. Мы живем…
Поселок третий
Тихо здесь, как тихо! Только диски стучат под рукой у Доброскока да Сиротка все сплевывает. Жирный сладковатый дым заполз и сюда, в редкий соснячок, слюна стала противной, будто не своя, а тут еще этот все плюется. Ему все нипочем. Посвистывает и плюется, опущенные руки раскинул и почесывает свои воровские ладони о сосновые ветки. Подкидыш детдомовский – этому везде дом! Лезет каждому на голову, а сдачи получит и сразу на спину завалится и хвостом завиляет. Вот такие, без царя в голове, и перебегают к бандитам, а от них потом и остальным беда. Доливан звереет, на ком попало лютость срывает. За убежавшего двоих стреляют – может быть, и невиновных, кто под руку попадет. Только дурак может думать, что немцы вот это все делали бы, что в Борках, если бы не знали твердо, что победят, что большевики уже не вернутся. Не враги же они сами себе и не стали бы они такое делать, если бы думали, что русские тоже придут в их деревни да города. Да и те, в лесу, разве они простят, если ты служишь в батальоне Доливана? Бегите, бегите к ним, они спросят, что в этих Борках делали и отчего дым был на всю округу такой сладкий. Ну, а Тупиге и до тех и до этих дела мало. Пусть им ихнее будет – и немцам тоже. А Тупиге и своего хватит. Для себя живет. Пока живет. Пока вот эта штука под рукой. Есть пулемет, есть и Тупига. И наган есть, пулеметчику, как и командиру, личное оружие положено. Тупигу вам не получить, пока живой. А из неживого хоть чучело набейте.
Снова жито открылось, но здесь, в низине, оно погуще. Сиротка взвизгнул и бросился вперед, как в воду, загребая руками и ногами: ему, как дурному щенку, от всего радость. Малинник в жите увидел, мелкие и густые кустики, погребся туда и уже орет:
– О, привет, хайль!
И тотчас рядом с ним встала согнутая женская фигура и уже лопочет, уже она не виновата, уже у нее дети-сироты, а мужа нема… Сколько ж тут этих сирот и все в батьковом: кто в рубахе, кто в больших сапогах, в пиджаке – одни хлопцы. Ишь спрятала новобранцев, пару годков добавить им, и пошли-потянулись друг за дружкой в лес, к бандитам. А Доливану опять забота.
– Я сам сирота! – радуется дурная Одесса и смотрит на Тупигов пулемет, на Тупигу: для тебя, мол, постарался, выковырял – работай! Еще один француз нашелся!..
– А может, Доброскока подпустить раньше, а, Тупига? Арбайтен, мужички!
И пошагал, злодюга. А Доброскок сторонкой, сторонкой – следом за ним. Чуть что, скажут: Тупига оставался последний, ему и свет гасить. Ах, вы!..
– А ну, на землю! Ну, что раскудахталась? Ниц ложись!
А те убегают и весело оглядываются, ждут, когда же загремит музыка. Смеющиеся львы!.. О таких вот, что дурака валять только и умеют, напридумывали всякие слова – в газетках да на политзанятиях. «Львы», «привидения» и еще всякое там! А как были, так и остались – сачки! Что-то в бок печет? Да, хлеб в сумке, он все еще горячий.
* * *
– Дает, во дает! – старается перекричать пулемет Сиротка. И Доброскок повернулся и смотрит на стреляющего Тупигу, но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь. Широкая спина Тупиги и его наклоненная к плечу голова плавно разворачиваются, а локти вздрагивают, удерживая пулемет.
Повернулся, поправил и заботливо оглядел свою машину и только тогда двинулся вслед за Сироткой и Доброскоком.
– Нет, пойду гляну! – сорвался назад Сиротка, но Тупига преградил ему дорогу.
– Ты это куда, лев? Ухватить что-нибудь, на готовенькое?
– А тебе какое?..
И тут – грохот! Рожь справа от Сиротки побежала, побежала, как от внезапного ветра. Сиротка влево бросился, упал, Доброскок аж присел от ужаса и удовольствия. Вскочил на ноги Сиротка, вместо лица что-то белое с дырочками для глаз, носа.
– Псих! Тупица! Доложу кому следует! Думает, все может, раз он дурак! Да за меня бы тебя, да знаешь!..
Сиротка машет кулаками, гримасничает, даже за винтовку трусливо хватается, а из глаз, из наглых вывернутых ноздренок какая-то слизь.