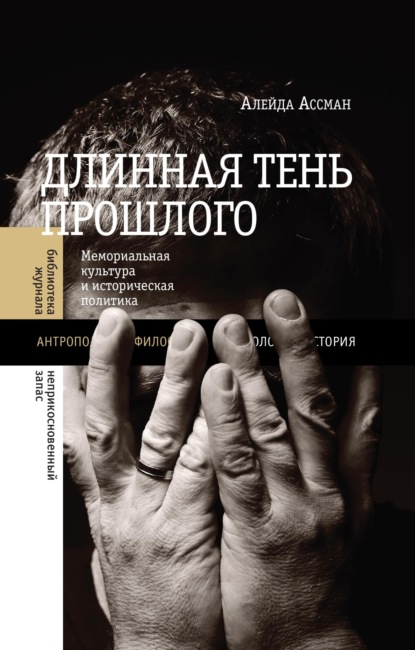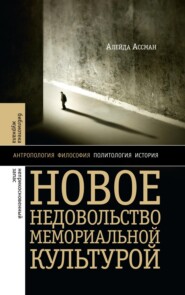По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика
Алейда Ассман
Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
В книге известного немецкого исследователя исторической памяти Алейды Ассман предпринята впечатляющая попытка обобщения теоретических дебатов о том, как складываются социальные представления о прошлом, что стоит за человеческой способностью помнить и предавать забвению, благодаря чему индивидуальное воспоминание есть не только непосредственное свидетельство о прошлом, но и симптом, отражающий культурный контекст самого вспоминающего. Материалом, который позволяет прочертить постоянно меняющиеся траектории этих теоретических дебатов, является трагическая история XX века.
Алейда Ассман
Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика
Aleida Assmann
Der Lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik
© Verlag C.H.Beck oHG, M?nchen 2021
© Б. Хлебников, перевод с немецкого, 2014
© А. Рыбаков, дизайн обложки, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014; 2018; 2023
Райнхарт Козеллек умер в 2005 году, дожив до восьмидесяти двух лет. Историк, свидетель своего времени, интеллектуал и художник – он, пожалуй, более других повлиял на послевоенное поколение немцев, пересекая границы различных научных дисциплин. Страницы этой книги дают понять, сколь многим они обязаны его работам. Высказанные Райнхартом Козеллеком сомнения, возражения и требования сделали его моим внутренним адресатом при написании книги. Она посвящается его памяти.
Предисловие
Каждый писатель, по словам Хорхе Семпруна, мечтает всю жизнь работать над одной книгой, постоянно переписывая ее. Для тех, кто избрал тему памяти, такая мечта может легко обернуться явью. Эта тема достаточно обширна, важна и увлекательна, чтобы вновь и вновь возвращаться к ней; опыт наших собственных занятий открывает все более разнообразные аспекты этой темы и предъявляет нам все новые вызовы перед лицом стремительно разрастающегося дискурса. Предлагаемая версия бесконечной книги базируется на итогах пятилетней работы, которые обозначены двойным подзаголовком: мемориальная культура и историческая политика. Подзаголовок указывает на некоторое смещение приоритетов от литературы и искусства в сторону автобиографии, общества и политики. Чтобы свести воедино разнонаправленные научные интересы, понадобились взаимно противоречивые условия: досуг и давление определенных обязательств. Мне повезло иметь и то и другое: досуг был обеспечен пребыванием в гамбургском «Доме Варбурга», а давление обязательств – приглашением в венский Институт современной истории, куда Фонд Питера Устинова приглашает профессоров для чтения лекций. Я благодарю коллег института, а также студентов за их интерес, неизменное внимание и важные творческие импульсы. Кроме того, мне выпало счастье черпать вдохновение из общения с такими собеседниками, как Бернхард Гизен, Джей Уинтер, Джефри Хартман и Ян Ассман, которые открывали мне все новые перспективы при рассмотрении темы памяти.
Введение
Триумф и травма
В январе 1997 года художник Хорст Хоайзель создал инсталляцию, демонстрация которой поначалу была запрещена, но потом все-таки разрешена. В ночь на 27 января, когда отмечалась первая годовщина Дня памяти жертв Холокоста, учрежденного федеральным президентом Романом Херцогом и приуроченного ко дню освобождения концентрационного лагеря Аушвиц, Хорст Хоайзель наложил на Бранденбургские ворота световую проекцию ворот концлагеря Аушвиц. «Те и другие ворота слились воедино, – прокомментировал художник свою инсталляцию. – Мне показалось это знаменательным жестом, но на протяжении холодной январской ночи он становился все менее значимым. С тех пор Бранденбургские ворота утратили для меня свою важность»[1 - Gespr?ch mit Horst Hoheisel, см.: Staffa, Spielmann, Nachtr?gliche Wirksamkeit, 254.]. То, что самому автору представлялось личным самовыражением и освободительным нарушением табу, приобрело далеко не кратковременный смысл в качестве художественной акции. Фотография, запечатлевшая однократный и мимолетный перформанс, увиденный в ту холодную январскую ночь лишь редкими очевидцами и воспринятый ими как случайная вспышка памяти, дала возможность увидеть эту инсталляцию многим другим зрителям в иных местах и в иное время. Фотография эфемерной акции вошла в материальные накопители памяти, коими являются архивы культуры, и была извлечена оттуда для обложки данной книги, чтобы далее излучать ту провокационность, которая для самого автора перформанса уже угасла.
Световая проекция Хоайзеля может быть воспринята как ментальный образ, позволяющий, не ограничиваясь ее кратковременным эффектом, заглянуть в глубины немецкой исторической памяти. Во-первых, эта видеоинсталляция демонстрирует значение Бранденбургских ворот как национального исторического символа. Обычно памятник несет эмпатическое послание потомкам, которые, однако, редко воспринимают его, а потому сам памятник вопреки изначальному посылу вскоре уходит в историю и если все еще впечатляет, то лишь в качестве материального реликта минувшего времени. Иначе обстоит дело с Бранденбургскими воротами, чье значение в качестве национального символа базируется не столько на смысле, который вкладывался их создателем, сколько на событиях вокруг этого сооружения, неоднократно становившегося объектом исторического действа. Возникнув в девяностые годы XVIII века, Бранденбургские ворота служили гордым символом мира, завоеванного победой[2 - Seibt, Brandenburger Tor.]. Но уже в 1806 году после поражения Пруссии от Наполеона это послание было не просто опровергнуто; символическое опровержение отразилось на самом памятнике, чья триумфальная квадрига была доставлена в Париж в виде военного трофея. В 1813 году, после поражения Наполеона в «битве народов» под Лейпцигом, положение вновь изменилось, и скульптурная группа с триумфом вернулась на прежнее место, а Карл Шинкель сделал добавление к созданной фон Шадовом фигуре Афины-Виктории, вложив ей в руку железный крест. Этот памятник не только несет определенную смысловую нагрузку, не только воплощает собой историю, – он сам вновь и вновь становился ареной истории, ее травматических и триумфальных моментов. Захват власти Гитлером торжественно праздновался здесь 30 января 1933 года помпезным военным парадом, а 9 ноября 1989 года жители Берлина и все, кто видел падение Стены на телеэкранах, стали очевидцами очередного исторического события.
Хоайзель, демонстрируя свою инсталляцию, констатировал, что Бранденбургские ворота «все больше казались ему просто площадкой для световой проекции». Во-вторых, рыночное общество с его экономикой зрелища предоставляет различным фирмам и организациям возможность использовать Бранденбургские ворота в грандиозных рекламных проектах. Когда с 2000 по 2002 год происходила реконструкция Бранденбургских ворот, концерн «Телеком» взял на себя часть расходов, а взамен на девятнадцати огромных пластиковых полотнах, которые закрывали памятник, размещал рекламу, соответствующую каждому времени года и календарным датам. Вслед за «Телекомом» попечительский Фонд памятника погибшим европейским евреям разместил в 2002 году на Бранденбургских воротах гигантский фотоплакат, пользуясь тем, что это место привлекает к себе повышенное внимание. Плакат вызвал острые споры, ибо его провокационная надпись на фоне идиллического альпийского пейзажа с синим озером и белоснежными горными вершинами гласила: «Холокоста никогда не было». Это был не только неудачный призыв к сбору пожертвований, но и пример того, насколько тесно могут переплестись связи между историческим памятником, немецкой мемориальной культурой и передовыми рекламными стратегиями мобилизации внимания.
В-третьих, Хоайзель использовал Бранденбургские ворота для инсталляции, связанной с еще одним центральным национальным «местом памяти» – Холокостом. Световая инсталляция в центре Берлина осуществила наложение национального травматического «места памяти» на национальное триумфальное «место памяти»: то, что удалено пространственно и еще сильнее разделено в сознании, оказалось совмещенным в едином визуальном образе. Диалектике и динамике триумфа и травмы уделил особое внимание в своих работах социолог Бернхард Гизен. Триумф и травма являются для него полюсами, между которыми действует мифомоторика конструирования национальной идентичности. Исторический опыт, по его утверждению, всегда перерабатывается в представлениях нации о самой себе тем или иным способом: как эйфорический апогей коллективного превосходства или как глубокое унижение и оскорбление. Инсталляция Хоайзеля вторит этому тезису Гизена. Она же наглядно демонстрирует проблематику национальной памяти немцев. Триумф и травма исключают друг друга, одно вытесняет, уничтожает другое, подвергает забвению – и все же триумф и травма неразрывно связаны в национальной памяти немцев: триумфальный символ объединения страны в центре Берлина и Аушвиц как травматическая низшая точка национального падения.
В отличие от Бернхарда Гизена, который рассматривает триумф и травму в качестве вневременных, антропологических категорий коллективного осмысления и толкования истории, Райнхарт Козеллек указывает на исторический поворот, произошедший в проблематике национальной памяти после Аушвица. Он различает два вида негативных воспоминаний: существуют негативные воспоминания о кровавом насилии и поражениях, которыми полнится мировая история; но поражение не воспринимается как «бессмысленное, если к нему приложима некая мера справедливости, то есть если оно может рассматриваться с точки зрения требуемой или предполагаемой справедливости». Однако, по мнению Козеллека, ни о какой мере нельзя говорить перед лицом экстремальных масштабов насилия и чудовищности Холокоста. Он пишет: «Не существует смыслополагания, способного хотя бы задним числом объяснить и оправдать тотальность преступлений немецких национал-социалистов. Этот негативный вывод определяет нашу память»[3 - Koselleck, Formen und Traditionen des negativen Ged?chtnisses, 22.].
Если Холокост с его экстремальным насилием в виде массовых убийств представляет собой поворотный момент в истории, то таким поворотом обуславливаются и новые вызовы по отношению к индивидуальным воспоминаниям и коллективной памяти. Поэтому неудивительно, что отзвук этих событий привел к сдвигам в основах и закономерностях мемориальных процессов, а возникшие «аномалии» привлекли к себе внимание исследователей.
Настоящая книга не является историческим исследованием, она не претендует на научный вклад в изучение Холокоста или Второй мировой войны. Она рассматривает исключительно последующее восприятие данных событий, задаваясь вопросами о том, в каком виде и каким образом происходят индивидуальные воспоминания, как разделяется или замалчивается коллективный опыт, как он получает публичное признание, снова и снова реконструируется в медиальных формах и ритуальных презентациях. При этом особое внимание уделяется психическим диспозициям индивидуумов или социумов, политическим и культурным условиям, в которых протекают мемориальные процессы, а также выявлению закономерностей и сопоставимости этих процессов. Мы переживаем ныне «посттравматическую эпоху», в которой мемориальные практики тесно переплетены с мемориальными теориями. Индивидуальные и коллективные воспоминания становятся все менее спонтанным, естественным или сакральным актом, они во все большей мере опознаются как социальные и культурные конструкты, изменяющиеся во времени и обретающие собственную историю.
Понятие травмы приобрело ныне чрезвычайно широкую трактовку, что отражает растущую чувствительность общества по отношению к теме насилия как в плане обусловленных этим насилием страданий, так и в плане связанной с ним вины. Трагические масштабы Холокоста таковы, что его нельзя «преодолеть» с помощью традиционных психотерапевтических, политических и культурных стратегий «проработки прошлого». Опыт Холокоста, необратимо изменивший современный мир, и осмысление этого опыта привели к формированию целого арсенала понятий и норм, действие которых распространяется и на бытовое насилие, скажем, на акты сексуального надругательства над детьми, и на исторические формы насилия вроде рабства, геноцида по отношению к коренным народам, колониального угнетения или событий Первой мировой войны. Подобное концептуальное и дискурсивное расширение той сферы, где используется понятие травмы, отнюдь не приводит к релятивизации Холокоста или отрицанию его уникальности, что вызывало опасения два десятилетия тому назад, когда в Германии разгорелся «спор историков». Скорее здесь дает о себе знать радикальный моральный и когнитивный «поворот», который в свете данных событий заставляет нас переосмыслить исторические эксцессы насилия, а главное, позволяет описать и оценить такие явления, для которых раньше не было адекватного языка и которые не привлекали к себе остро заинтересованного внимания общественности.
Все это и является непосредственной темой данной книги. В ней задается вопрос, с какими аномалиями и особенностями негативной памяти (как ее определяет Райнхард Козеллек) мы сталкиваемся на национальном и транснациональном уровнях. Далее будет изучено, как различные формы негативных воспоминаний, появляющихся под знаком вины или под знаком страданий, исключают друг друга или же сочетаются друг с другом. Мы попытаемся выяснить, как, когда и при каких условиях индивидуальные воспоминания переводятся в коллективную память, которая обретает воспроизводящуюся форму, и какие проблемы возникают при подобном переводе. В современных научных исследованиях памяти доминирует проблема прошлого как конструкта, который создается человеком в зависимости от его актуальных возможностей и потребностей. Слово «тень» в заглавии книги подчеркивает, напротив, аспект несвободы последующих поколений от травматического прошлого и невозможности обходиться с ним по своему усмотрению. Нам предстоит выяснить, как представления о свободе волеизъявления, о собственных возможностях и о способности к действию сочетаются с представлениями о давлении бессознательного, непрозрачности собственных интенций и устойчивой заданности.
Воспоминания существуют в поле напряжения между активностью и пассивностью, которое можно охарактеризовать двумя противоположными позициями. Обе заимствованы из литературы XX века. Первую представляет Кари, герой комедии Гуго фон Гофмансталя «Трудный характер» (1923), в которой автор отразил свой травматический опыт Первой мировой войны (один из друзей Гофмансталя перенес тяжелую контузию, которая изменила всю его жизнь). Кари говорит: «Прошлое нельзя вызвать, как вызывают в полицейский участок»[4 - Koselleck, Formen und Traditionen des negativen Ged?chtnisses, 23.]. Характеристика противоположной позиции содержится в романе Итало Звево «Самопознание Дзено», где автор обращается к проблемам психоанализа:
«Настоящее дирижирует прошлым, словно музыкантами оркестра. Настоящему нужны именно такие звуки, а не другие. Поэтому прошлое кажется то ближе, то дальше. Оно то звучит, то умолкает. На настоящее воздействует лишь та часть прошлого, которая нужна, чтобы либо высветить это настоящее, либо затемнить его»[5 - Svevo, Zeno Cosini, 467.].
Моя книга посвящена не Холокосту или Второй мировой войне, она исследует динамику индивидуальных и коллективных воспоминаний, на которые падает тень «травматического прошлого». Воспоминания не представляют собой замкнутую систему, они всегда соприкасаются с иными воспоминаниями или импульсами забвения, модифицируются или поляризуются в общественной реальности по отношению к другим воспоминаниям. Поэтому речь в книге будет вновь и вновь идти о констелляциях, переплетениях и конфронтациях различных воспоминаний. На протяжении последнего десятилетия этими темами интенсивно занимались многие исследователи, написанными работами заполнились целые библиотеки. Однако при огромном количестве публикаций об индивидуальной и коллективной памяти явно ощущается недостаточность попыток объединить различные дисциплинарные подходы внутри общего мемориального дискурса, которые развивается порой на малосовместимых научно-методических основах. Поэтому первая методическая цель данной книги состоит в том, чтобы предпринять такую попытку и тем самым поднять мемориальный дискурс на новый уровень междисциплинарной интеграции. Вторая цель состоит в стремлении четко определить понятия, которые фигурируют в мемориальном дискурсе. Без такой работы над необходимыми различиями, которая, надеемся, не покажется излишним педантизмом, сам этот дискурс вскоре пойдет вхолостую. Наконец, третья цель заключается в том, чтобы увязать теоретическую работу над системой базовых понятий (первая часть книги) с рассмотрением конкретных тем и фактов новейшей истории (вторая часть), причем обе части построены таким образом, что они взаимно отражают, комментируют и дополняют друг друга. Наконец, справедливости ради необходимо добавить, что динамика индивидуальной и коллективной памяти ставит гораздо больше проблем, нежели дает соответствующих решений. Однако, как замечает Дирк Бекер, и нерешенные проблемы полезны. Их полезность заключается в том, что «беспокоящие нас малые или большие проблемы служат постоянным напоминанием о том, что у нас еще далеко не все под контролем. Следовательно, необходимо постоянно мобилизовывать ресурсы не только ментального, но и материального свойства, чтобы спросить себя, а нельзя ли все-таки решить эту до сих пор не решенную проблему»[6 - Baecker, Kluge, Vom Nutzen ungel?ster Probleme.].
Первая часть
Теоретические основания
1. От индивидуального к коллективному конструированию прошлого
Человек в качестве индивида хотя и «неделим», однако не самодостаточен. Он всегда является частью некоторой более крупной целостности, в которую индивид включен и без которой он не мог бы существовать. Всякое «Я» связано с «Мы», дающим основы для индивидуальной идентичности. Но это «Мы» опять-таки не однородно, оно имеет разные уровни и характеризуется отчасти пересекающимися, отчасти несовместимыми и параллельными горизонтами. Различные «Мы»-группы, с которыми связывает себя индивид, отражают целый спектр разнородных, более или менее эксклюзивных принадлежностей. Вхождение в эти «Мы»-группы происходит частично непроизвольно (то есть без осознанного выбора), как это бывает с семьей, этносом или нацией, к которым мы принадлежим по рождению. В социальную группу можно попасть не только по рождению, но и по собственному свободному выбору в соответствии со способностями или интересами (такой группой может быть певческий хор или политическая партия), по оценке достигнутых результатов или в силу номинации (академия или орден), а также по принуждению (воинский призыв всех мужчин определенного года рождения). «Мы»-группы, к которым принадлежит индивид по рождению либо собственному выбору, или даже созданные им коллективы отличаются разной длительностью существования и разной значимостью для нашей жизни. Коллектив школьного класса, к которому мы принадлежим на протяжении сравнительно недолгого периода нашей биографии, оказывает, однако, на нее необычайно важное и устойчивое влияние и может наложить на каждого члена группы более или менее сильный отпечаток; это зависит от того, насколько тесные связи с членами этого коллектива поддерживаются и развиваются в пределах соответствующего временного горизонта. То же самое относится к локальным связям раннего периода жизни: соседи, друзья, компании по интересам. Сплоченность – обязательственный модус «Мы»-групп, в которые входит индивид, – весьма различна. Неформальные «Мы»-группы, дружеские компании, соседские знакомства вновь и вновь распадаются из-за мобильности, из-за смены биографических фаз; их место занимают новые. Но и формальные «Мы»-группы не являются неизменной частью нашей идентичности: от конфессиональной принадлежности можно отказаться и перейти в другую веру; нацию и культуру можно сменить из-за миграции или переориентации жизненной позиции. А вот родственные узы, поколенческая, половая или этническая принадлежность приобретаются по рождению, они обычно несменяемы на протяжении всей жизни и составляют наш экзистенциальный контекст, который может выглядеть очень неодинаково, однако в принципе он нам неподвластен.
«Мы»-группы имеют значительные различия и по временному параметру. Принадлежность к неформальным группам обычно кратковременна, она длится лишь несколько лет или десятилетий; принадлежность к формальным группам прекращается со смертью ее члена. Но это не относится к семье, принадлежность к ней не заканчивается со смертью члена семьи. Семья служит местом не только рождения, здесь жизнь продолжается и после смерти памятью об умерших родственниках, поминальными обрядами. Когда эту же миссию принимают на себя другие «Мы»-группы, будь то академия, фирма или круг друзей, они лишь ориентируются на модель семьи. Семья является парадигматическим сообществом, которое инкорпорирует умерших в свой состав, хотя эта задача вновь и вновь разрушает его. С точки зрения индивидуума, семья является не только длинной цепью поколений, звеном которой оказывается его собственная жизнь, начинающаяся рождением и продолжающаяся после смерти при наличии детей и внуков. Семья представляет собой еще и коммуникативные рамки для одновременно живущих поколений. В этих рамках происходят пересечения их опыта, их рассказов и судеб. Если существует интерес к генеалогии и истории, семейная память, к которой причастен индивидуум, может получить опору и продолжение в виде хроникальных записок или документов. Как правило, семейная память охватывает три поколения, которые имеют непосредственный контакт, знают друг о друге и общаются. А вот культуры, религиозные общины, нации существуют в гораздо более протяженном временном горизонте; благодаря принадлежности к этим «Мы»-группам индивид вбирает в себя длительные временные диапазоны.
Хотя собственное время жизни человека экзистенциально ограничено, он тем не менее обитает в куда более протяженном временном горизонте, который уходит значительно дальше границ личного опыта. Поэтому индивидуальная память вмещает в себя гораздо больше, нежели содержание собственного неповторимого опыта; в человеке всегда совмещаются индивидуальная и коллективная память.
В дальнейшем будут подробно рассмотрены эти различные временные горизонты, называемые «горизонтами памяти». Предполагается, что «Мы»-группы, о которых шла речь выше, конструируют специфическую форму памяти: «Мы»-память семьи, соседей, поколения, общества, нации, культуры. Не всегда легко определить, где кончается одна формация памяти и начинается другая, ибо их отдельные элементы совмещаются в конкретном человеке, перемешиваются в нем и наслаиваются друг на друга. И все-таки небесполезно задаться вопросом о различных уровнях и параметрах памяти, поскольку им присущи разные функции и динамика. При этом использованное в названии данной главы противопоставление «индивидуальной» и «коллективной» памяти будет детализовано и заменено на четыре формации, которые различаются по критериям пространственно-временного диапазона, по размеру группы, а также по ее неустойчивости или стабильности: память индивидуума, социальной группы, политического коллектива нации и, наконец, память культуры.
Индивидуальная память
Я начинаю раздел об индивидуальной памяти пессимистическим высказыванием одного английского врача середины XVII века по поводу возможностей человеческой памяти: «По ходу времени чередуются свет и тьма, вот так же забвению принадлежит в нашей жизни не меньшее место, чем воспоминанию. От счастья сохраняются лишь поверхностные впечатления, и даже самые глубокие раны способны зарубцеваться. Наши чувства не выносят крайностей, и страдание разрушает либо нас, либо самое себя»[7 - Browne, Hydriotaphia, 283.]. Сэр Томас Браун написал эти слова под влиянием христианского пессимизма относительно стойкости человека перед лицом земных испытаний. Не намного оптимистичнее мнение современных нейрологов и специалистов по когнитивной психологии, изучающих потенциал человеческой памяти. Исследуя обманчивый характер воспоминаний, они показали, до чего эфемерны и ненадежны наши воспоминания[8 - Schacter (Hg.), Memory Distortion, а также: The Seven Sins of Memory.]. И все же приходится констатировать, что при всей ее ненадежности именно память делает человека человеком. Без нее нельзя ни сформировать собственную личность, ни общаться с другими людьми. Каждому необходимы собственные воспоминания, ибо они служат материалом, из которого создаются личный опыт, взаимоотношения с другими, а главное, образ своей собственной идентичности[9 - Ср.: Randall, The Stories We Are.]. Впрочем, лишь небольшая часть наших воспоминаний, проходя речевую обработку, образует основу имплицитной истории жизни. Большая часть наших воспоминаний, по выражению Пруста, «дремлет» в нас, ожидая внешнего импульса для «пробуждения». Тогда эти воспоминания внезапно осознаются, вновь обретают чувственное присутствие и при соответствующих условиях получают словесное воплощение, чтобы стать частью репертуара воспоминаний, присутствующих в сознании. К наличным воспоминаниям и «досознательным» воспоминаниям добавляются недоступные «бессознательные» воспоминания, которые находятся под запретом; их охраняют сторожа, чьи имена «вытеснение» или «травма». Подобные воспоминания слишком болезненны или постыдны, чтобы выйти на поверхность сознания без посторонней помощи, будь то терапия или некий нажим.
Наши эпизодические воспоминания характеризуются определенными признаками, которые в обобщенном виде можно описать следующим образом. Во-первых, они принципиально перспективны и в этом отношении незаменимы и непередаваемы другому субъекту. Каждый человек занимает вместе с историей своей жизни собственное место, специфическую позицию, из которой он видит мир, поэтому и воспоминания при всех их пересечениях неизбежно отличаются друг от друга. Во-вторых, воспоминания существуют не изолированно, они взаимосвязаны с воспоминаниями других людей. Структуре воспоминаний свойственны взаимоналожения, взаимные подхваты, а потому воспоминания подтверждают и упрочают друг друга. Благодаря этому они приобретают не только согласованность и достоверность, но и объединяющую силу, способность формировать сообщества. В-третьих, воспоминания сами по себе фрагментарны, то есть ограничены и неоформлены. Вспышка воспоминания бывает обычно отрывочной, бессвязной, у нее нет ни прошлого, ни будущего. Лишь повествование придает воспоминанию задним числом форму и структуру; эти факторы дополняют воспоминание и стабилизируют его. В-четвертых, воспоминания эфемерны и лабильны. Одни из них изменяются со временем вместе с переменой личности, ее жизненных обстоятельств, другие меркнут или теряются вовсе. Особенно сильно изменяются по ходу жизни критерии релевантности и оценки, поэтому то, что некогда казалось важным, становится несущественным, а прежде несущественное может при ретроспективном взгляде сделаться важным. Лучше всего сохраняются воспоминания, включенные в часто повторяемое повествование, благодаря чему воспоминанию задаются четкие временные границы: со смертью носителя этих воспоминаний они, естественно, стираются.
Суммируя указанные признаки, можно сказать, что индивидуальная память является динамичным средством проработки индивидуального опыта. Но, разумеется, нельзя представлять ее себе в качестве самодостаточной и чисто приватной памяти. Как показал в 1920-х годах Морис Хальбвакс, французский социолог и родоначальник исследований социальной памяти, индивидуальная память всегда опирается на социальный фундамент. По мнению Хальбвакса, абсолютно одинокий человек вообще неспособен на воспоминания, поскольку они обусловлены коммуникацией, то есть формируются и закрепляются благодаря речевому общению с другими людьми. Память как конгломерат наших воспоминаний врастает в человека извне, подобно языку, который, бесспорно, является для нее важнейшей основой. Коммуникативная память – как мы ее будем именовать – возникает в среде пространственной близости, регулярной интерактивности, сходного образа жизни и совместных воспоминаний[10 - Jan Assmann, Das kulturelle Ged?chtnis, 48–66; Welzer, Das kommunikative Ged?chtnis; Halbwachs, Das Ged?chtnis und seine soziale Bedingungen; Das kollektive Ged?chtnis. О Хальбваксе см.: Namer, Halbwachs et la mеmoire sociale; Echterhoff, Saar (Hg.), Kontexte und Kulturen des Erinnerns; Becker, Maurice Halbwachs.].
Личные воспоминания обитают не только в особой социальной среде, но и в специфическом временно'м горизонте. Этот горизонт в основном определяется сменой поколений. Через восемьдесят – сто лет возникает отчетливая цезура. Это период одновременного сосуществования нескольких поколений (обычно их бывает три, в исключительных случаях даже пять), которые благодаря непосредственному общению образуют сообщество совместного опыта, воспоминаний и нарративов. Повествование, слушание, расспросы и пересказ расширяют радиус собственных воспоминаний. Дети и внуки включают часть воспоминаний старших членов семьи в состав собственного опыта, где смешиваются услышанное и пережитое. Эта «память трех поколений» является экзистенциальным горизонтом личных воспоминаний, оказывая решающее влияние на собственную ориентацию человека во времени. Через восемьдесят – сто лет она естественным образом рассеивается, чтобы уступить место воспоминаниям следующих поколений, поэтому мы можем называть память, опирающуюся на непосредственное общение, оперативной памятью общества.
Социальная память
Наряду с семейными поколениями существуют социальные и исторические поколения, которые ритмизируют временной опыт общества[11 - Schuhmann, Scott, Generations and Collective Memory; Becker, Discontinuous Change.]. Карл Маннгейм, которого наряду с Хальбваксом считают основоположником исследований социальной памяти[12 - Mannheim, Problem der Generationen.], уже в 1930-е годы уделял особое внимание памяти поколений. Он исходил из того, что в возрасте от двенадцати до двадцати пяти лет люди особенно восприимчивы к полученному опыту, поэтому данный период имеет определяющее значение для всей последующей жизни человека и для развития его личности. Являясь наблюдателем, действующим лицом или жертвой, индивидуум всегда включен в динамичный контекст исторического процесса. Каждый человек формируется под воздействием ключевых исторических событий своего времени независимо от того, разделяет он или нет с другими представителями своей возрастной когорты те или иные убеждения, установки, мировоззренческие взгляды, социальные ценности и культурные парадигмы. Это означает, что индивидуальная память определяется не только собственным временным диапазоном, но и более широким горизонтом поколенческой памяти, от которого зависят формы проработки индивидуального опыта. Один американский психолог, несколько утрируя эту мысль, сказал: «…однажды сформировавшуюся поколенческую идентичность уже невозможно изменить»[13 - Conway, Inventory of Experience, 43.].
Поколение объединено, следовательно, «общностью мировосприятия и освоения мира»[14 - Schelsky, Generationen der Bundesrepublik, 178.]. По словам социолога Хайнца Буде, поколение «формирует сообщество людей сходного возраста, близкое к непосредственно переживаемым событиям и открытое для нового опыта, которое сознает свое отличие от предшествующих и последующих поколений». Именно поэтому, подчеркивает Буде, «коммуникация между поколениями всегда находится на грани взаимопонимания, что обусловлено временем непосредственного переживания событий. Возраст экзистенциально разделяет, потому что нельзя уйти от своего времени»[15 - Bude, Generationen im sozialen Wandel, 65.]. Согласно данному подходу к исследованию поколений, абстрактное единство исторической эпохи и память общества распадаются, ибо у разных возрастных групп формируется своя память, которая зависит от опыта собственных переживаний; соседствуя и противопоставляя себя друг другу, эти возрастные группы отличаются видением мира, отсюда между ними возникают напряженности, трения и конфликты. Каждое поколение вырабатывает собственное отношение к прошлому, не позволяя предшествующему поколению навязывать иную точку зрения. Столь отчетливо ощущаемые трения внутри социальной памяти обусловлены типичными для разных поколений ценностями и потребностями, которые задают определенные рамки для воспоминаний, имеющих, впрочем, ограниченный срок значимости.
Таким образом, динамика памяти общества существенно определяется сменой поколений. Каждая такая смена, происходящая примерно с тридцатилетним периодом, заметно сдвигает в обществе профиль его воспоминаний. Позиции, которые раньше господствовали или считались репрезентативными, постепенно перемещаются от центра к периферии. При ретроспективном взгляде обнаруживается, что со сменой доминирующего поколения рассеивается определенная атмосфера надежд и опасений, накопленного опыта и бытовавших ценностей, их место занимают другие настроения и установки. Смена поколения играет важную роль для обновления общественной памяти, особенно значимую для позднейшей проработки травматических или постыдных воспоминаний. Например, репрессивное и солидарное замалчивание исторической вины, существовавшее в послевоенном немецком обществе до 1960-х годов, было сломлено молодым поколением 68 года. Это поколение не только принесло с собой критическое обсуждение немецкой вины, но и участвовало в руководстве при сооружении памятников, при разработке концепций музейных экспозиций, при производстве кинофильмов и создании других форм публичной мемориальной культуры.
Подобная публичная мемориальная культура формируется обычно спустя пятнадцать – тридцать лет после событий травматического или постыдного характера. Примеры замедленной проработки негативного исторического опыта прослежены социологами в сравнительном исследовании, посвященном американским городам. Как выяснилось, в Далласе, где в 1963 году был убит президент Джон Кеннеди, нет ни одной школы или улицы, которая называлась бы в его честь. То же самое относится к Мемфису, где в 1968 году был убит правозащитник Мартин Лютер Кинг. Здесь также не обнаружишь его имени ни на уличной табличке, ни на школьном здании. Зато в каждом городе есть школы и улицы, названные в честь других жертв. Лишь через тридцать лет жители обоих городов оказались готовы, преодолев рану памяти, создать музеи, посвященные этим убийствам[16 - Pennebaker, Banasik, Collective Memories, 11–13.].
Для социальной памяти характерна ограниченность временного горизонта, поэтому здесь можно говорить об «оперативной памяти» общества. Хотя и она имеет медиальную основу в виде книг, фотоальбомов или дневников, эти средства не могут существенно расширить диапазон живой памяти. Живой можно назвать ту память, которая внутри достаточно интимного контекста актуализирует прошлое в разговоре. Психологи выявили специфический речевой акт, называемый ими «memory talk» или «conversational remembering»[17 - Welzer, Das soziale Ged?chtnis, 16.]. Благодаря этой форме неформальной диалоговой коммуникации прошлое не только актуализируется, но и конструируется как результат коллективной работы. Едва сеть живой коммуникации прерывается, исчезает и совместное воспоминание. Тогда материальные носители этой живой памяти вроде фотографий и писем становятся окаменелым следом утраченного прошлого, неспособного ожить благодаря спонтанному воспоминанию. Временной горизонт социальной памяти не может быть расширен благодаря выходу из задаваемого живой интерактивностью и коммуникацией диапазона, который ограничен максимум тремя-четырьмя поколениями. Он похож на тень, бегущую рядом с современностью, или на горизонт, который всегда отодвигается по мере того, как пешеход идет вперед.
Харальд Вельцер придал понятию «социальная память» несколько иное значение. Он распространил его не только на интенциональные формы коммуникации, опосредования и воспроизводство традиции, но также на неприметное, непреднамеренное и спонтанное транслирование истории[18 - Ibid., 15–18.]. Тем самым внимание переносится на такие феномены, благодаря которым история не столько «конструируется», сколько в различных формах подспудно сопутствует нам или скромно присутствует среди нас.
Коллективная память – фикция?
Насколько переход от индивидуальной памяти к социальной кажется простым и неизбежным, настолько же проблематичен, даже противоречив этот переход от социальной памяти к коллективной. Словосочетание «коллективная память» вошло не только в повседневный обиход, оно все чаще появляется и в названиях книг, однако до сих пор довольно широко распространен скепсис по отношению к этому понятию. «Коллективной памяти нет», – неоднократно подчеркивал историк Райнхарт Козеллек, да и венский философ Рудольф Бургер не менее категоричен: «Несмотря на утверждения нынешних мистагогов, „коллективной памяти“ не существует»[19 - Райнхарт Козеллек: «Не существует коллективных воспоминаний, но существуют коллективные условия для возможных воспоминаний» – Gebrochene Erinnerungen? 20; Burger, Kleine Geschichte, 121.].
Понятие коллективной памяти, введенное французским социологом Морисом Хальбваксом в 1920-е годы, было изначально воспринято настороженно; оно и по сей день вызывает сомнения и недоразумения[20 - Историк Марк Блок написал в рецензии на книгу Хальбвакса, что понятие «коллективная память» «хотя и удобно, но малоэффективно» – Bloch, Mеmoire collective. На фоне дискурса, пользовавшегося в начале XX века значительной конъюнктурой и наделявшего нации или культуры индивидуальной душой и субъектностью, подобное недоверчивое отношение к понятию коллективной памяти представляется вполне объяснимым. Новые психоаналитические и конструктивистские концепции вроде «социального воображаемого» (Ж. Лакан) или «воображаемых сообществ» (Б. Андерсон) открыли новое направление в исследованиях памяти.]. Сам Хальбвакс развернуто откликнулся на критику, говоря о социальной памяти, которая возникает не благодаря мистическому причащению, а единственно благодаря повествованию, актуализации прошлого и коммуникативному обмену.
Алейда Ассман
Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
В книге известного немецкого исследователя исторической памяти Алейды Ассман предпринята впечатляющая попытка обобщения теоретических дебатов о том, как складываются социальные представления о прошлом, что стоит за человеческой способностью помнить и предавать забвению, благодаря чему индивидуальное воспоминание есть не только непосредственное свидетельство о прошлом, но и симптом, отражающий культурный контекст самого вспоминающего. Материалом, который позволяет прочертить постоянно меняющиеся траектории этих теоретических дебатов, является трагическая история XX века.
Алейда Ассман
Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика
Aleida Assmann
Der Lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik
© Verlag C.H.Beck oHG, M?nchen 2021
© Б. Хлебников, перевод с немецкого, 2014
© А. Рыбаков, дизайн обложки, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014; 2018; 2023
Райнхарт Козеллек умер в 2005 году, дожив до восьмидесяти двух лет. Историк, свидетель своего времени, интеллектуал и художник – он, пожалуй, более других повлиял на послевоенное поколение немцев, пересекая границы различных научных дисциплин. Страницы этой книги дают понять, сколь многим они обязаны его работам. Высказанные Райнхартом Козеллеком сомнения, возражения и требования сделали его моим внутренним адресатом при написании книги. Она посвящается его памяти.
Предисловие
Каждый писатель, по словам Хорхе Семпруна, мечтает всю жизнь работать над одной книгой, постоянно переписывая ее. Для тех, кто избрал тему памяти, такая мечта может легко обернуться явью. Эта тема достаточно обширна, важна и увлекательна, чтобы вновь и вновь возвращаться к ней; опыт наших собственных занятий открывает все более разнообразные аспекты этой темы и предъявляет нам все новые вызовы перед лицом стремительно разрастающегося дискурса. Предлагаемая версия бесконечной книги базируется на итогах пятилетней работы, которые обозначены двойным подзаголовком: мемориальная культура и историческая политика. Подзаголовок указывает на некоторое смещение приоритетов от литературы и искусства в сторону автобиографии, общества и политики. Чтобы свести воедино разнонаправленные научные интересы, понадобились взаимно противоречивые условия: досуг и давление определенных обязательств. Мне повезло иметь и то и другое: досуг был обеспечен пребыванием в гамбургском «Доме Варбурга», а давление обязательств – приглашением в венский Институт современной истории, куда Фонд Питера Устинова приглашает профессоров для чтения лекций. Я благодарю коллег института, а также студентов за их интерес, неизменное внимание и важные творческие импульсы. Кроме того, мне выпало счастье черпать вдохновение из общения с такими собеседниками, как Бернхард Гизен, Джей Уинтер, Джефри Хартман и Ян Ассман, которые открывали мне все новые перспективы при рассмотрении темы памяти.
Введение
Триумф и травма
В январе 1997 года художник Хорст Хоайзель создал инсталляцию, демонстрация которой поначалу была запрещена, но потом все-таки разрешена. В ночь на 27 января, когда отмечалась первая годовщина Дня памяти жертв Холокоста, учрежденного федеральным президентом Романом Херцогом и приуроченного ко дню освобождения концентрационного лагеря Аушвиц, Хорст Хоайзель наложил на Бранденбургские ворота световую проекцию ворот концлагеря Аушвиц. «Те и другие ворота слились воедино, – прокомментировал художник свою инсталляцию. – Мне показалось это знаменательным жестом, но на протяжении холодной январской ночи он становился все менее значимым. С тех пор Бранденбургские ворота утратили для меня свою важность»[1 - Gespr?ch mit Horst Hoheisel, см.: Staffa, Spielmann, Nachtr?gliche Wirksamkeit, 254.]. То, что самому автору представлялось личным самовыражением и освободительным нарушением табу, приобрело далеко не кратковременный смысл в качестве художественной акции. Фотография, запечатлевшая однократный и мимолетный перформанс, увиденный в ту холодную январскую ночь лишь редкими очевидцами и воспринятый ими как случайная вспышка памяти, дала возможность увидеть эту инсталляцию многим другим зрителям в иных местах и в иное время. Фотография эфемерной акции вошла в материальные накопители памяти, коими являются архивы культуры, и была извлечена оттуда для обложки данной книги, чтобы далее излучать ту провокационность, которая для самого автора перформанса уже угасла.
Световая проекция Хоайзеля может быть воспринята как ментальный образ, позволяющий, не ограничиваясь ее кратковременным эффектом, заглянуть в глубины немецкой исторической памяти. Во-первых, эта видеоинсталляция демонстрирует значение Бранденбургских ворот как национального исторического символа. Обычно памятник несет эмпатическое послание потомкам, которые, однако, редко воспринимают его, а потому сам памятник вопреки изначальному посылу вскоре уходит в историю и если все еще впечатляет, то лишь в качестве материального реликта минувшего времени. Иначе обстоит дело с Бранденбургскими воротами, чье значение в качестве национального символа базируется не столько на смысле, который вкладывался их создателем, сколько на событиях вокруг этого сооружения, неоднократно становившегося объектом исторического действа. Возникнув в девяностые годы XVIII века, Бранденбургские ворота служили гордым символом мира, завоеванного победой[2 - Seibt, Brandenburger Tor.]. Но уже в 1806 году после поражения Пруссии от Наполеона это послание было не просто опровергнуто; символическое опровержение отразилось на самом памятнике, чья триумфальная квадрига была доставлена в Париж в виде военного трофея. В 1813 году, после поражения Наполеона в «битве народов» под Лейпцигом, положение вновь изменилось, и скульптурная группа с триумфом вернулась на прежнее место, а Карл Шинкель сделал добавление к созданной фон Шадовом фигуре Афины-Виктории, вложив ей в руку железный крест. Этот памятник не только несет определенную смысловую нагрузку, не только воплощает собой историю, – он сам вновь и вновь становился ареной истории, ее травматических и триумфальных моментов. Захват власти Гитлером торжественно праздновался здесь 30 января 1933 года помпезным военным парадом, а 9 ноября 1989 года жители Берлина и все, кто видел падение Стены на телеэкранах, стали очевидцами очередного исторического события.
Хоайзель, демонстрируя свою инсталляцию, констатировал, что Бранденбургские ворота «все больше казались ему просто площадкой для световой проекции». Во-вторых, рыночное общество с его экономикой зрелища предоставляет различным фирмам и организациям возможность использовать Бранденбургские ворота в грандиозных рекламных проектах. Когда с 2000 по 2002 год происходила реконструкция Бранденбургских ворот, концерн «Телеком» взял на себя часть расходов, а взамен на девятнадцати огромных пластиковых полотнах, которые закрывали памятник, размещал рекламу, соответствующую каждому времени года и календарным датам. Вслед за «Телекомом» попечительский Фонд памятника погибшим европейским евреям разместил в 2002 году на Бранденбургских воротах гигантский фотоплакат, пользуясь тем, что это место привлекает к себе повышенное внимание. Плакат вызвал острые споры, ибо его провокационная надпись на фоне идиллического альпийского пейзажа с синим озером и белоснежными горными вершинами гласила: «Холокоста никогда не было». Это был не только неудачный призыв к сбору пожертвований, но и пример того, насколько тесно могут переплестись связи между историческим памятником, немецкой мемориальной культурой и передовыми рекламными стратегиями мобилизации внимания.
В-третьих, Хоайзель использовал Бранденбургские ворота для инсталляции, связанной с еще одним центральным национальным «местом памяти» – Холокостом. Световая инсталляция в центре Берлина осуществила наложение национального травматического «места памяти» на национальное триумфальное «место памяти»: то, что удалено пространственно и еще сильнее разделено в сознании, оказалось совмещенным в едином визуальном образе. Диалектике и динамике триумфа и травмы уделил особое внимание в своих работах социолог Бернхард Гизен. Триумф и травма являются для него полюсами, между которыми действует мифомоторика конструирования национальной идентичности. Исторический опыт, по его утверждению, всегда перерабатывается в представлениях нации о самой себе тем или иным способом: как эйфорический апогей коллективного превосходства или как глубокое унижение и оскорбление. Инсталляция Хоайзеля вторит этому тезису Гизена. Она же наглядно демонстрирует проблематику национальной памяти немцев. Триумф и травма исключают друг друга, одно вытесняет, уничтожает другое, подвергает забвению – и все же триумф и травма неразрывно связаны в национальной памяти немцев: триумфальный символ объединения страны в центре Берлина и Аушвиц как травматическая низшая точка национального падения.
В отличие от Бернхарда Гизена, который рассматривает триумф и травму в качестве вневременных, антропологических категорий коллективного осмысления и толкования истории, Райнхарт Козеллек указывает на исторический поворот, произошедший в проблематике национальной памяти после Аушвица. Он различает два вида негативных воспоминаний: существуют негативные воспоминания о кровавом насилии и поражениях, которыми полнится мировая история; но поражение не воспринимается как «бессмысленное, если к нему приложима некая мера справедливости, то есть если оно может рассматриваться с точки зрения требуемой или предполагаемой справедливости». Однако, по мнению Козеллека, ни о какой мере нельзя говорить перед лицом экстремальных масштабов насилия и чудовищности Холокоста. Он пишет: «Не существует смыслополагания, способного хотя бы задним числом объяснить и оправдать тотальность преступлений немецких национал-социалистов. Этот негативный вывод определяет нашу память»[3 - Koselleck, Formen und Traditionen des negativen Ged?chtnisses, 22.].
Если Холокост с его экстремальным насилием в виде массовых убийств представляет собой поворотный момент в истории, то таким поворотом обуславливаются и новые вызовы по отношению к индивидуальным воспоминаниям и коллективной памяти. Поэтому неудивительно, что отзвук этих событий привел к сдвигам в основах и закономерностях мемориальных процессов, а возникшие «аномалии» привлекли к себе внимание исследователей.
Настоящая книга не является историческим исследованием, она не претендует на научный вклад в изучение Холокоста или Второй мировой войны. Она рассматривает исключительно последующее восприятие данных событий, задаваясь вопросами о том, в каком виде и каким образом происходят индивидуальные воспоминания, как разделяется или замалчивается коллективный опыт, как он получает публичное признание, снова и снова реконструируется в медиальных формах и ритуальных презентациях. При этом особое внимание уделяется психическим диспозициям индивидуумов или социумов, политическим и культурным условиям, в которых протекают мемориальные процессы, а также выявлению закономерностей и сопоставимости этих процессов. Мы переживаем ныне «посттравматическую эпоху», в которой мемориальные практики тесно переплетены с мемориальными теориями. Индивидуальные и коллективные воспоминания становятся все менее спонтанным, естественным или сакральным актом, они во все большей мере опознаются как социальные и культурные конструкты, изменяющиеся во времени и обретающие собственную историю.
Понятие травмы приобрело ныне чрезвычайно широкую трактовку, что отражает растущую чувствительность общества по отношению к теме насилия как в плане обусловленных этим насилием страданий, так и в плане связанной с ним вины. Трагические масштабы Холокоста таковы, что его нельзя «преодолеть» с помощью традиционных психотерапевтических, политических и культурных стратегий «проработки прошлого». Опыт Холокоста, необратимо изменивший современный мир, и осмысление этого опыта привели к формированию целого арсенала понятий и норм, действие которых распространяется и на бытовое насилие, скажем, на акты сексуального надругательства над детьми, и на исторические формы насилия вроде рабства, геноцида по отношению к коренным народам, колониального угнетения или событий Первой мировой войны. Подобное концептуальное и дискурсивное расширение той сферы, где используется понятие травмы, отнюдь не приводит к релятивизации Холокоста или отрицанию его уникальности, что вызывало опасения два десятилетия тому назад, когда в Германии разгорелся «спор историков». Скорее здесь дает о себе знать радикальный моральный и когнитивный «поворот», который в свете данных событий заставляет нас переосмыслить исторические эксцессы насилия, а главное, позволяет описать и оценить такие явления, для которых раньше не было адекватного языка и которые не привлекали к себе остро заинтересованного внимания общественности.
Все это и является непосредственной темой данной книги. В ней задается вопрос, с какими аномалиями и особенностями негативной памяти (как ее определяет Райнхард Козеллек) мы сталкиваемся на национальном и транснациональном уровнях. Далее будет изучено, как различные формы негативных воспоминаний, появляющихся под знаком вины или под знаком страданий, исключают друг друга или же сочетаются друг с другом. Мы попытаемся выяснить, как, когда и при каких условиях индивидуальные воспоминания переводятся в коллективную память, которая обретает воспроизводящуюся форму, и какие проблемы возникают при подобном переводе. В современных научных исследованиях памяти доминирует проблема прошлого как конструкта, который создается человеком в зависимости от его актуальных возможностей и потребностей. Слово «тень» в заглавии книги подчеркивает, напротив, аспект несвободы последующих поколений от травматического прошлого и невозможности обходиться с ним по своему усмотрению. Нам предстоит выяснить, как представления о свободе волеизъявления, о собственных возможностях и о способности к действию сочетаются с представлениями о давлении бессознательного, непрозрачности собственных интенций и устойчивой заданности.
Воспоминания существуют в поле напряжения между активностью и пассивностью, которое можно охарактеризовать двумя противоположными позициями. Обе заимствованы из литературы XX века. Первую представляет Кари, герой комедии Гуго фон Гофмансталя «Трудный характер» (1923), в которой автор отразил свой травматический опыт Первой мировой войны (один из друзей Гофмансталя перенес тяжелую контузию, которая изменила всю его жизнь). Кари говорит: «Прошлое нельзя вызвать, как вызывают в полицейский участок»[4 - Koselleck, Formen und Traditionen des negativen Ged?chtnisses, 23.]. Характеристика противоположной позиции содержится в романе Итало Звево «Самопознание Дзено», где автор обращается к проблемам психоанализа:
«Настоящее дирижирует прошлым, словно музыкантами оркестра. Настоящему нужны именно такие звуки, а не другие. Поэтому прошлое кажется то ближе, то дальше. Оно то звучит, то умолкает. На настоящее воздействует лишь та часть прошлого, которая нужна, чтобы либо высветить это настоящее, либо затемнить его»[5 - Svevo, Zeno Cosini, 467.].
Моя книга посвящена не Холокосту или Второй мировой войне, она исследует динамику индивидуальных и коллективных воспоминаний, на которые падает тень «травматического прошлого». Воспоминания не представляют собой замкнутую систему, они всегда соприкасаются с иными воспоминаниями или импульсами забвения, модифицируются или поляризуются в общественной реальности по отношению к другим воспоминаниям. Поэтому речь в книге будет вновь и вновь идти о констелляциях, переплетениях и конфронтациях различных воспоминаний. На протяжении последнего десятилетия этими темами интенсивно занимались многие исследователи, написанными работами заполнились целые библиотеки. Однако при огромном количестве публикаций об индивидуальной и коллективной памяти явно ощущается недостаточность попыток объединить различные дисциплинарные подходы внутри общего мемориального дискурса, которые развивается порой на малосовместимых научно-методических основах. Поэтому первая методическая цель данной книги состоит в том, чтобы предпринять такую попытку и тем самым поднять мемориальный дискурс на новый уровень междисциплинарной интеграции. Вторая цель состоит в стремлении четко определить понятия, которые фигурируют в мемориальном дискурсе. Без такой работы над необходимыми различиями, которая, надеемся, не покажется излишним педантизмом, сам этот дискурс вскоре пойдет вхолостую. Наконец, третья цель заключается в том, чтобы увязать теоретическую работу над системой базовых понятий (первая часть книги) с рассмотрением конкретных тем и фактов новейшей истории (вторая часть), причем обе части построены таким образом, что они взаимно отражают, комментируют и дополняют друг друга. Наконец, справедливости ради необходимо добавить, что динамика индивидуальной и коллективной памяти ставит гораздо больше проблем, нежели дает соответствующих решений. Однако, как замечает Дирк Бекер, и нерешенные проблемы полезны. Их полезность заключается в том, что «беспокоящие нас малые или большие проблемы служат постоянным напоминанием о том, что у нас еще далеко не все под контролем. Следовательно, необходимо постоянно мобилизовывать ресурсы не только ментального, но и материального свойства, чтобы спросить себя, а нельзя ли все-таки решить эту до сих пор не решенную проблему»[6 - Baecker, Kluge, Vom Nutzen ungel?ster Probleme.].
Первая часть
Теоретические основания
1. От индивидуального к коллективному конструированию прошлого
Человек в качестве индивида хотя и «неделим», однако не самодостаточен. Он всегда является частью некоторой более крупной целостности, в которую индивид включен и без которой он не мог бы существовать. Всякое «Я» связано с «Мы», дающим основы для индивидуальной идентичности. Но это «Мы» опять-таки не однородно, оно имеет разные уровни и характеризуется отчасти пересекающимися, отчасти несовместимыми и параллельными горизонтами. Различные «Мы»-группы, с которыми связывает себя индивид, отражают целый спектр разнородных, более или менее эксклюзивных принадлежностей. Вхождение в эти «Мы»-группы происходит частично непроизвольно (то есть без осознанного выбора), как это бывает с семьей, этносом или нацией, к которым мы принадлежим по рождению. В социальную группу можно попасть не только по рождению, но и по собственному свободному выбору в соответствии со способностями или интересами (такой группой может быть певческий хор или политическая партия), по оценке достигнутых результатов или в силу номинации (академия или орден), а также по принуждению (воинский призыв всех мужчин определенного года рождения). «Мы»-группы, к которым принадлежит индивид по рождению либо собственному выбору, или даже созданные им коллективы отличаются разной длительностью существования и разной значимостью для нашей жизни. Коллектив школьного класса, к которому мы принадлежим на протяжении сравнительно недолгого периода нашей биографии, оказывает, однако, на нее необычайно важное и устойчивое влияние и может наложить на каждого члена группы более или менее сильный отпечаток; это зависит от того, насколько тесные связи с членами этого коллектива поддерживаются и развиваются в пределах соответствующего временного горизонта. То же самое относится к локальным связям раннего периода жизни: соседи, друзья, компании по интересам. Сплоченность – обязательственный модус «Мы»-групп, в которые входит индивид, – весьма различна. Неформальные «Мы»-группы, дружеские компании, соседские знакомства вновь и вновь распадаются из-за мобильности, из-за смены биографических фаз; их место занимают новые. Но и формальные «Мы»-группы не являются неизменной частью нашей идентичности: от конфессиональной принадлежности можно отказаться и перейти в другую веру; нацию и культуру можно сменить из-за миграции или переориентации жизненной позиции. А вот родственные узы, поколенческая, половая или этническая принадлежность приобретаются по рождению, они обычно несменяемы на протяжении всей жизни и составляют наш экзистенциальный контекст, который может выглядеть очень неодинаково, однако в принципе он нам неподвластен.
«Мы»-группы имеют значительные различия и по временному параметру. Принадлежность к неформальным группам обычно кратковременна, она длится лишь несколько лет или десятилетий; принадлежность к формальным группам прекращается со смертью ее члена. Но это не относится к семье, принадлежность к ней не заканчивается со смертью члена семьи. Семья служит местом не только рождения, здесь жизнь продолжается и после смерти памятью об умерших родственниках, поминальными обрядами. Когда эту же миссию принимают на себя другие «Мы»-группы, будь то академия, фирма или круг друзей, они лишь ориентируются на модель семьи. Семья является парадигматическим сообществом, которое инкорпорирует умерших в свой состав, хотя эта задача вновь и вновь разрушает его. С точки зрения индивидуума, семья является не только длинной цепью поколений, звеном которой оказывается его собственная жизнь, начинающаяся рождением и продолжающаяся после смерти при наличии детей и внуков. Семья представляет собой еще и коммуникативные рамки для одновременно живущих поколений. В этих рамках происходят пересечения их опыта, их рассказов и судеб. Если существует интерес к генеалогии и истории, семейная память, к которой причастен индивидуум, может получить опору и продолжение в виде хроникальных записок или документов. Как правило, семейная память охватывает три поколения, которые имеют непосредственный контакт, знают друг о друге и общаются. А вот культуры, религиозные общины, нации существуют в гораздо более протяженном временном горизонте; благодаря принадлежности к этим «Мы»-группам индивид вбирает в себя длительные временные диапазоны.
Хотя собственное время жизни человека экзистенциально ограничено, он тем не менее обитает в куда более протяженном временном горизонте, который уходит значительно дальше границ личного опыта. Поэтому индивидуальная память вмещает в себя гораздо больше, нежели содержание собственного неповторимого опыта; в человеке всегда совмещаются индивидуальная и коллективная память.
В дальнейшем будут подробно рассмотрены эти различные временные горизонты, называемые «горизонтами памяти». Предполагается, что «Мы»-группы, о которых шла речь выше, конструируют специфическую форму памяти: «Мы»-память семьи, соседей, поколения, общества, нации, культуры. Не всегда легко определить, где кончается одна формация памяти и начинается другая, ибо их отдельные элементы совмещаются в конкретном человеке, перемешиваются в нем и наслаиваются друг на друга. И все-таки небесполезно задаться вопросом о различных уровнях и параметрах памяти, поскольку им присущи разные функции и динамика. При этом использованное в названии данной главы противопоставление «индивидуальной» и «коллективной» памяти будет детализовано и заменено на четыре формации, которые различаются по критериям пространственно-временного диапазона, по размеру группы, а также по ее неустойчивости или стабильности: память индивидуума, социальной группы, политического коллектива нации и, наконец, память культуры.
Индивидуальная память
Я начинаю раздел об индивидуальной памяти пессимистическим высказыванием одного английского врача середины XVII века по поводу возможностей человеческой памяти: «По ходу времени чередуются свет и тьма, вот так же забвению принадлежит в нашей жизни не меньшее место, чем воспоминанию. От счастья сохраняются лишь поверхностные впечатления, и даже самые глубокие раны способны зарубцеваться. Наши чувства не выносят крайностей, и страдание разрушает либо нас, либо самое себя»[7 - Browne, Hydriotaphia, 283.]. Сэр Томас Браун написал эти слова под влиянием христианского пессимизма относительно стойкости человека перед лицом земных испытаний. Не намного оптимистичнее мнение современных нейрологов и специалистов по когнитивной психологии, изучающих потенциал человеческой памяти. Исследуя обманчивый характер воспоминаний, они показали, до чего эфемерны и ненадежны наши воспоминания[8 - Schacter (Hg.), Memory Distortion, а также: The Seven Sins of Memory.]. И все же приходится констатировать, что при всей ее ненадежности именно память делает человека человеком. Без нее нельзя ни сформировать собственную личность, ни общаться с другими людьми. Каждому необходимы собственные воспоминания, ибо они служат материалом, из которого создаются личный опыт, взаимоотношения с другими, а главное, образ своей собственной идентичности[9 - Ср.: Randall, The Stories We Are.]. Впрочем, лишь небольшая часть наших воспоминаний, проходя речевую обработку, образует основу имплицитной истории жизни. Большая часть наших воспоминаний, по выражению Пруста, «дремлет» в нас, ожидая внешнего импульса для «пробуждения». Тогда эти воспоминания внезапно осознаются, вновь обретают чувственное присутствие и при соответствующих условиях получают словесное воплощение, чтобы стать частью репертуара воспоминаний, присутствующих в сознании. К наличным воспоминаниям и «досознательным» воспоминаниям добавляются недоступные «бессознательные» воспоминания, которые находятся под запретом; их охраняют сторожа, чьи имена «вытеснение» или «травма». Подобные воспоминания слишком болезненны или постыдны, чтобы выйти на поверхность сознания без посторонней помощи, будь то терапия или некий нажим.
Наши эпизодические воспоминания характеризуются определенными признаками, которые в обобщенном виде можно описать следующим образом. Во-первых, они принципиально перспективны и в этом отношении незаменимы и непередаваемы другому субъекту. Каждый человек занимает вместе с историей своей жизни собственное место, специфическую позицию, из которой он видит мир, поэтому и воспоминания при всех их пересечениях неизбежно отличаются друг от друга. Во-вторых, воспоминания существуют не изолированно, они взаимосвязаны с воспоминаниями других людей. Структуре воспоминаний свойственны взаимоналожения, взаимные подхваты, а потому воспоминания подтверждают и упрочают друг друга. Благодаря этому они приобретают не только согласованность и достоверность, но и объединяющую силу, способность формировать сообщества. В-третьих, воспоминания сами по себе фрагментарны, то есть ограничены и неоформлены. Вспышка воспоминания бывает обычно отрывочной, бессвязной, у нее нет ни прошлого, ни будущего. Лишь повествование придает воспоминанию задним числом форму и структуру; эти факторы дополняют воспоминание и стабилизируют его. В-четвертых, воспоминания эфемерны и лабильны. Одни из них изменяются со временем вместе с переменой личности, ее жизненных обстоятельств, другие меркнут или теряются вовсе. Особенно сильно изменяются по ходу жизни критерии релевантности и оценки, поэтому то, что некогда казалось важным, становится несущественным, а прежде несущественное может при ретроспективном взгляде сделаться важным. Лучше всего сохраняются воспоминания, включенные в часто повторяемое повествование, благодаря чему воспоминанию задаются четкие временные границы: со смертью носителя этих воспоминаний они, естественно, стираются.
Суммируя указанные признаки, можно сказать, что индивидуальная память является динамичным средством проработки индивидуального опыта. Но, разумеется, нельзя представлять ее себе в качестве самодостаточной и чисто приватной памяти. Как показал в 1920-х годах Морис Хальбвакс, французский социолог и родоначальник исследований социальной памяти, индивидуальная память всегда опирается на социальный фундамент. По мнению Хальбвакса, абсолютно одинокий человек вообще неспособен на воспоминания, поскольку они обусловлены коммуникацией, то есть формируются и закрепляются благодаря речевому общению с другими людьми. Память как конгломерат наших воспоминаний врастает в человека извне, подобно языку, который, бесспорно, является для нее важнейшей основой. Коммуникативная память – как мы ее будем именовать – возникает в среде пространственной близости, регулярной интерактивности, сходного образа жизни и совместных воспоминаний[10 - Jan Assmann, Das kulturelle Ged?chtnis, 48–66; Welzer, Das kommunikative Ged?chtnis; Halbwachs, Das Ged?chtnis und seine soziale Bedingungen; Das kollektive Ged?chtnis. О Хальбваксе см.: Namer, Halbwachs et la mеmoire sociale; Echterhoff, Saar (Hg.), Kontexte und Kulturen des Erinnerns; Becker, Maurice Halbwachs.].
Личные воспоминания обитают не только в особой социальной среде, но и в специфическом временно'м горизонте. Этот горизонт в основном определяется сменой поколений. Через восемьдесят – сто лет возникает отчетливая цезура. Это период одновременного сосуществования нескольких поколений (обычно их бывает три, в исключительных случаях даже пять), которые благодаря непосредственному общению образуют сообщество совместного опыта, воспоминаний и нарративов. Повествование, слушание, расспросы и пересказ расширяют радиус собственных воспоминаний. Дети и внуки включают часть воспоминаний старших членов семьи в состав собственного опыта, где смешиваются услышанное и пережитое. Эта «память трех поколений» является экзистенциальным горизонтом личных воспоминаний, оказывая решающее влияние на собственную ориентацию человека во времени. Через восемьдесят – сто лет она естественным образом рассеивается, чтобы уступить место воспоминаниям следующих поколений, поэтому мы можем называть память, опирающуюся на непосредственное общение, оперативной памятью общества.
Социальная память
Наряду с семейными поколениями существуют социальные и исторические поколения, которые ритмизируют временной опыт общества[11 - Schuhmann, Scott, Generations and Collective Memory; Becker, Discontinuous Change.]. Карл Маннгейм, которого наряду с Хальбваксом считают основоположником исследований социальной памяти[12 - Mannheim, Problem der Generationen.], уже в 1930-е годы уделял особое внимание памяти поколений. Он исходил из того, что в возрасте от двенадцати до двадцати пяти лет люди особенно восприимчивы к полученному опыту, поэтому данный период имеет определяющее значение для всей последующей жизни человека и для развития его личности. Являясь наблюдателем, действующим лицом или жертвой, индивидуум всегда включен в динамичный контекст исторического процесса. Каждый человек формируется под воздействием ключевых исторических событий своего времени независимо от того, разделяет он или нет с другими представителями своей возрастной когорты те или иные убеждения, установки, мировоззренческие взгляды, социальные ценности и культурные парадигмы. Это означает, что индивидуальная память определяется не только собственным временным диапазоном, но и более широким горизонтом поколенческой памяти, от которого зависят формы проработки индивидуального опыта. Один американский психолог, несколько утрируя эту мысль, сказал: «…однажды сформировавшуюся поколенческую идентичность уже невозможно изменить»[13 - Conway, Inventory of Experience, 43.].
Поколение объединено, следовательно, «общностью мировосприятия и освоения мира»[14 - Schelsky, Generationen der Bundesrepublik, 178.]. По словам социолога Хайнца Буде, поколение «формирует сообщество людей сходного возраста, близкое к непосредственно переживаемым событиям и открытое для нового опыта, которое сознает свое отличие от предшествующих и последующих поколений». Именно поэтому, подчеркивает Буде, «коммуникация между поколениями всегда находится на грани взаимопонимания, что обусловлено временем непосредственного переживания событий. Возраст экзистенциально разделяет, потому что нельзя уйти от своего времени»[15 - Bude, Generationen im sozialen Wandel, 65.]. Согласно данному подходу к исследованию поколений, абстрактное единство исторической эпохи и память общества распадаются, ибо у разных возрастных групп формируется своя память, которая зависит от опыта собственных переживаний; соседствуя и противопоставляя себя друг другу, эти возрастные группы отличаются видением мира, отсюда между ними возникают напряженности, трения и конфликты. Каждое поколение вырабатывает собственное отношение к прошлому, не позволяя предшествующему поколению навязывать иную точку зрения. Столь отчетливо ощущаемые трения внутри социальной памяти обусловлены типичными для разных поколений ценностями и потребностями, которые задают определенные рамки для воспоминаний, имеющих, впрочем, ограниченный срок значимости.
Таким образом, динамика памяти общества существенно определяется сменой поколений. Каждая такая смена, происходящая примерно с тридцатилетним периодом, заметно сдвигает в обществе профиль его воспоминаний. Позиции, которые раньше господствовали или считались репрезентативными, постепенно перемещаются от центра к периферии. При ретроспективном взгляде обнаруживается, что со сменой доминирующего поколения рассеивается определенная атмосфера надежд и опасений, накопленного опыта и бытовавших ценностей, их место занимают другие настроения и установки. Смена поколения играет важную роль для обновления общественной памяти, особенно значимую для позднейшей проработки травматических или постыдных воспоминаний. Например, репрессивное и солидарное замалчивание исторической вины, существовавшее в послевоенном немецком обществе до 1960-х годов, было сломлено молодым поколением 68 года. Это поколение не только принесло с собой критическое обсуждение немецкой вины, но и участвовало в руководстве при сооружении памятников, при разработке концепций музейных экспозиций, при производстве кинофильмов и создании других форм публичной мемориальной культуры.
Подобная публичная мемориальная культура формируется обычно спустя пятнадцать – тридцать лет после событий травматического или постыдного характера. Примеры замедленной проработки негативного исторического опыта прослежены социологами в сравнительном исследовании, посвященном американским городам. Как выяснилось, в Далласе, где в 1963 году был убит президент Джон Кеннеди, нет ни одной школы или улицы, которая называлась бы в его честь. То же самое относится к Мемфису, где в 1968 году был убит правозащитник Мартин Лютер Кинг. Здесь также не обнаружишь его имени ни на уличной табличке, ни на школьном здании. Зато в каждом городе есть школы и улицы, названные в честь других жертв. Лишь через тридцать лет жители обоих городов оказались готовы, преодолев рану памяти, создать музеи, посвященные этим убийствам[16 - Pennebaker, Banasik, Collective Memories, 11–13.].
Для социальной памяти характерна ограниченность временного горизонта, поэтому здесь можно говорить об «оперативной памяти» общества. Хотя и она имеет медиальную основу в виде книг, фотоальбомов или дневников, эти средства не могут существенно расширить диапазон живой памяти. Живой можно назвать ту память, которая внутри достаточно интимного контекста актуализирует прошлое в разговоре. Психологи выявили специфический речевой акт, называемый ими «memory talk» или «conversational remembering»[17 - Welzer, Das soziale Ged?chtnis, 16.]. Благодаря этой форме неформальной диалоговой коммуникации прошлое не только актуализируется, но и конструируется как результат коллективной работы. Едва сеть живой коммуникации прерывается, исчезает и совместное воспоминание. Тогда материальные носители этой живой памяти вроде фотографий и писем становятся окаменелым следом утраченного прошлого, неспособного ожить благодаря спонтанному воспоминанию. Временной горизонт социальной памяти не может быть расширен благодаря выходу из задаваемого живой интерактивностью и коммуникацией диапазона, который ограничен максимум тремя-четырьмя поколениями. Он похож на тень, бегущую рядом с современностью, или на горизонт, который всегда отодвигается по мере того, как пешеход идет вперед.
Харальд Вельцер придал понятию «социальная память» несколько иное значение. Он распространил его не только на интенциональные формы коммуникации, опосредования и воспроизводство традиции, но также на неприметное, непреднамеренное и спонтанное транслирование истории[18 - Ibid., 15–18.]. Тем самым внимание переносится на такие феномены, благодаря которым история не столько «конструируется», сколько в различных формах подспудно сопутствует нам или скромно присутствует среди нас.
Коллективная память – фикция?
Насколько переход от индивидуальной памяти к социальной кажется простым и неизбежным, настолько же проблематичен, даже противоречив этот переход от социальной памяти к коллективной. Словосочетание «коллективная память» вошло не только в повседневный обиход, оно все чаще появляется и в названиях книг, однако до сих пор довольно широко распространен скепсис по отношению к этому понятию. «Коллективной памяти нет», – неоднократно подчеркивал историк Райнхарт Козеллек, да и венский философ Рудольф Бургер не менее категоричен: «Несмотря на утверждения нынешних мистагогов, „коллективной памяти“ не существует»[19 - Райнхарт Козеллек: «Не существует коллективных воспоминаний, но существуют коллективные условия для возможных воспоминаний» – Gebrochene Erinnerungen? 20; Burger, Kleine Geschichte, 121.].
Понятие коллективной памяти, введенное французским социологом Морисом Хальбваксом в 1920-е годы, было изначально воспринято настороженно; оно и по сей день вызывает сомнения и недоразумения[20 - Историк Марк Блок написал в рецензии на книгу Хальбвакса, что понятие «коллективная память» «хотя и удобно, но малоэффективно» – Bloch, Mеmoire collective. На фоне дискурса, пользовавшегося в начале XX века значительной конъюнктурой и наделявшего нации или культуры индивидуальной душой и субъектностью, подобное недоверчивое отношение к понятию коллективной памяти представляется вполне объяснимым. Новые психоаналитические и конструктивистские концепции вроде «социального воображаемого» (Ж. Лакан) или «воображаемых сообществ» (Б. Андерсон) открыли новое направление в исследованиях памяти.]. Сам Хальбвакс развернуто откликнулся на критику, говоря о социальной памяти, которая возникает не благодаря мистическому причащению, а единственно благодаря повествованию, актуализации прошлого и коммуникативному обмену.