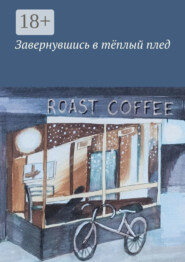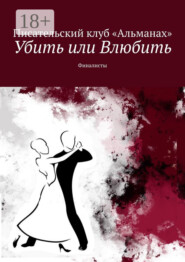По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорога перемен. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не та-аак, не та-аак…
Собственно, сегодня годовщина их свадьбы. Утром Анна лежала в постели и с тревогой прислушивалась к звукам с кухни. Муж, как это часто бывало, старался не будить её.
– Тебе надо больше отдыхать, дорогая.
Он сам приготовил себе кофе и омлет, тихо играло радио, в окнах робко растекался серебристо-розовый рассвет. Потом проснулся сын, завозился, зазвучал. Пришлось встать и, покормив маленького, спуститься вниз.
– Доброе утро, милый, тебе следовало разбудить меня.
– Ты так сладко спала, и тебе нужно больше отдыхать, дорогая.
Он улыбнулся, поцеловал в щёку. Как всегда, Анна прошла сквозь эту странную смесь чувств – ласку, благодарность, странность, отчуждение, недовольство собой…
Взгляд упал на букет ярко-розовых георгинов. Словно проснувшееся наконец северное солнце окрасило их своими рассветными мазками.
– О, дорогой!
– С нашей годовщиной. Ты сделала меня самым счастливым.
На одном из цветов висел необычный кулон – серебряная отполированная поверхность и жемчужина. Анне виделось вспененное серое море и чайка, кружившая над самой водой…
Весь день всё валилось из рук, а взгляд постоянно цеплялся за букет георгинов. Показалось, или они незаметно меняли цвет – от ярко-розового утром до желтоватого в полдень и бело-розового к вечеру?
Любая женщина на месте Анны была бы счастлива. Любящий красивый муж, здоровый щекастый малыш, добротный дом, уютная жизнь. И Анна была. Только отчего так неимоверно сложно подстраиваться под это размеренное течение жизни? Встать пораньше и сварить мужу кофе, поболтать с соседкой, поиграть с сыном, украсить дом и испечь праздничный пирог – это же так просто и естественно, разве нет? Георгины качали головками:
– Нет, вовсе нет.
Вечером Анна не выдержала:
– Дорогой, я уйду на полчаса? – И выскочила за дверь.
И теперь, наедине с морем, с которым привыкла делиться сокровенным с самого детства, проветривала душу. Море всегда понимало и принимало, с ним можно оставаться собой. И возвращаться к нему, как к себе, тоже.
– Может, пришло время?
Дома ждали георгины, и возвращаться к ним отчего-то не хотелось. Она нащупала на груди кулон – море и чайка. Да, чайка как раз пролетала над вспененной поверхностью волн, прекрасная, свободная.
– Как я хотела бы стать как она, – подумала Анна.
– Ты такая и есть, – ответило море.
А кулон нежно грел замерзшие пальцы…
Утреннее солнце обнимало лепестки георгинов – ярко-розовый символ верности, свободы, всепобеждающей силы жизни.
МАТЬ
Никто не знал, сколько ей лет. Говорили, что она пережила внуков своих внуков, но можно ли тому верить?
Каждый день её видели сидящей у порога дома, глядящей далеко вперёд и одновременно никуда почти слепыми глазами. Рядом, на скамье лежала хлебная лепешка и молоко, выносимые одной из родственниц, больше она ничего не ела.
Все её звали Матерью, утверждая, что находятся с ней в той или иной степени родства.
– Доброго дня, тебе, Мать, – говорили все, кто проходил мимо.
И она тихо кивала, прикрывая глаза от солнца ветхим соломенным зонтиком.
Иногда кто-то приходил за советом. Мать всегда усаживала гостя рядом с собой на скамью, протягивала ему кусок лепешки, а после внимательно и молча слушала. Так проходили часы – за рассказом, жалобами, слезами и смехом сквозь них. Когда пришедший уставал, Мать кивала на хлеб, словно говоря:
– Подкрепи силы.
А потом снова слушала и слушала, и слушала. На закате, когда дальние поля окрашивались в охристо-розовые перья и принимали на ночлег солнце, она накрывала руку посетителя своей маленькой рукой.
– Ну как, – будто говорила эта рука, – стало полегче?
И ладонь гостя удивлённо отвечала:
– Да, Мать. Ты знаешь, стало…
– Я знаю, знаю.
К ней приходили за благословением в день свадьбы. Мать усаживала молодых по обе стороны от себя, разламывала лепёшку и отдавала им по половине.
– Пусть в вашей жизни всего будет поровну, а вы станете единым целым.
И жених с невестой кланялись, благодарили и хранили тот хлеб всю жизнь.
К ней приносили младенцев. Мать клала ладонь на лоб новорожденного и желала ему долгой и удивительной жизни.
– Не то счастье, что гладко бежит, а то, что не устаёт спотыкаться и припадать к земле, а после вставать и видеть над собой небо. Тогда и хлеб вкуснее, и солнце ярче, – говорила она и наделяла младенца лепёшкой.
Бывало, звали её на погребение.
– Знаю, всё уже знаю, – качала Мать головой.
– Откуда же знаешь?
– Мёртвые громко говорят, надо только уметь слышать. Вот, положите на могилу, – и она отдавала нетронутую лепёшку хлеба.
Однажды, в самом последнем часу заката Мать легко и бесшумно покинула этот мир. Её нашли по-прежнему сидящей на скамье, а вокруг было множество хлебных крошек, на которые слетались всё новые и новые птицы.
– Пусть едят вдоволь, – словно слышали её голос все прибежавшие на новость жители деревни. – Это души усопших пришли проститься.
И каждый живущий вспомнил всех мёртвых, ушедших давно и на этом закате.
И каждый вспомнил Мать – женщину без возраста и примет, с которой все они были в родстве…
Анастасия Ворончихина