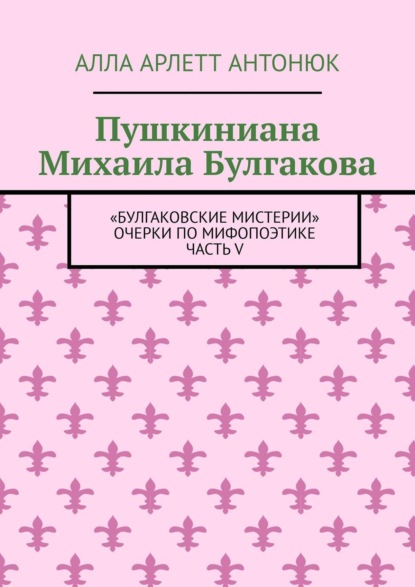По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкиниана Михаила Булгакова. «Булгаковские мистерии» Очерки по мифопоэтике Часть V
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вливали в душу хладный яд.
А н г е л: …мне были новы…
Его <демона> улыбка, чудный взгляд…
Д е м о н: На жизнь <я> насмешливо глядел…
А н г е л: Печальны были наши встречи…
Реконструировано нами по
«Демону» Пушкина А. С.
Уже в ходе такой реконструкции, которой мы подвергли здесь текст пушкинского стихотворения и которая заменяет нам длительный структурный анализ, обнаруживается глубокая внутренняя диалогичность и контрапунктный характер произведения Пушкина (содержащий «pro и contra»).
Подобный приём обнаруживается и у Булгакова в его сцене на Патриарших. Прежде чем Воланд, «дух зла», начинает предъявлять одно за другим свои contra (отрицания положений, выдвигаемых литераторами), Берлиоз трижды и более отрёкся от Бога и трижды от сына Божиего. Воланд, конечно, провоцировал его на это своими речами и вопросами:
В о л а н д: «… вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращаясь к Берлиозу.
Б е р л и о з: «Нет, вы не ослышались».
«…никого не было, в том числе и Иисуса».
Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз,
Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз.
«…большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге».
«…никакого доказательства существования бога быть не может».
Дальнейшая беседа литераторов с Воландом развивается у Булгакова в русле тех антиномий, которые выстраивает и Пушкин в «Демоне». Булгаков в своей сцене поддерживает пушкинскую структуру диалога с отрицающим демоном («духом отрицания»). И булгаковский Воланд, «дух зла», совершенно с запалом пушкинского «злобного гения» отрицает все, что пытается говорить ему Берлиоз:
Б е р л и о з: «…никого не было, в том числе и Иисуса».
В о л а н д: «Имейте в виду, что Иисус существовал».
Б е р л и о з: «…в области разума никакого доказательства существования бога быть не может».
В о л а н д: «…а как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?»
Б е р л и о з: «…в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать».
В о л а н д: «Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец. <…> …заседание не состоится».
Б е р л и о з: «Но требуется же какое-нибудь доказательство…»
В о л а н д: «И доказательств никаких не требуется».
Б е р л и о з: «… <мы> придерживаемся другой точки зрения».
В о л а н д: « А не надо никаких точек зрения!»
Чутко уловив интонации пушкинского демона («духа отрицающего»), Булгаков передаёт их слишком уж нарочито и в своём диалоге Воланда и Берлиоза как «pro и contra» (с отсылкой также к Достоевскому с его спором черта и Ивана Карамазова).
В сцене на Патриарших мы найдём у Булгакова и другие скрытые реминисценции из Пушкина и Достоевского. Когда Воланд говорит: «…вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого…», – это он не только имитирует смешки черта, который являлся Ивану Карамазову, но глумясь таким образом над Берлиозом, своеобразно переосмысливает и перефразирует пушкинские строки из стихотворения «Пора, мой друг, пора!»: «…каждый час уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем Предполагаем жить, и глядь – как раз умрем». Эти пушкинские строки аллюзивно звучат и в названиях глав романа Булгакова: «Пора, пора!»
Мистическая встреча Пушкина. Пушкин-мистик был непревзойденным рассказчиком своих мистический историй. По воспоминаниям Анны Керн, он был всегда желанным гостем в литературных салонах Петербурга и Москвы. Все без исключения любили слушать его завораживающие слушателей рассказы, полные мистики («Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи» А. П. Керн). По воспоминаниям А. П. Керн, «… в одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в Подснежнике». Действительно, этот рассказ Пушкина («Сказка про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров») был записан за ним и издан позже (1827—1828) молодым литератором Владимиром Павловичем Титовым (1807—1891), посещавшим литературные собрания у Дельвига. Повесть была напечатана В. Титовым с согласия Пушкина в альманахе «Северные цветы» за 1829 год под названием «Уединенный домик на Васильевском» под вымышленным именем автора Тита Космократова (эту повесть и сейчас также печатают в полных собраниях сочинений Пушкина).
Другую мистическую историю, рассказанную Пушкиным, воспроизводит в своих воспоминаниях один из его современников. Как-то Александр Сергеевич беседовал со своим приятелем графом Ланским. Речь зашла о религии, и оба наперебой принялись подвергать ее едким и колким насмешкам. Вдруг в комнату, где они сидели, вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского, а тот – за знакомого Пушкина. Подсев к ним, вошедший тотчас включился в беседу и мгновенно обезоружил их доводами в пользу религии. И хотя оба приятеля слыли страстными спорщиками, они обескураженно примолкли, не зная, что сказать. Возникшую паузу следовало прервать, и граф с поэтом сделали это, согласившись, что, пожалуй, были неправы и теперь совершенно изменили свое мнение. Тогда гость встал и, простившись с ними, вышел.
Некоторое время оставшиеся одни, Пушкин и граф Ланской молчали, когда же заговорили, то выяснилось, что ни тот ни другой не знали молодого человека. Они позвали многочисленную прислугу, бывшую в доме, но дворня в один голос утверждала, что никто из посторонних здесь не появлялся, а в барскую комнату вообще никто не заходил. Тогда только Ланской и Пушкин признались друг другу, что таинственный визитер одним своим появлением внушил им какой-то страх, парализовавший их. Александр Сергеевич, рассказывая о случившемся своим знакомым, говорил: «Это не могло быть видением, потому что одинаковых видений у двух человек быть не может, мы же не просто видели его наяву, мы разговаривали с ним, ощущали тепло, исходящее от него, чувствовали дыхание». Поэт говорил, что его мучал только один вопрос – был ли незваный гость посланцем от Бога – ангелом, несущим какую-то весть и направляющим на путь истинный, или же от демона. Уж очень скверное ощущение осталось от общения с ним – не радость и облегчение, как после молитвы, а ужас и страх».
Тщательно, до мельчайших деталей изучавший биографию поэта во время написания своей пьесы «Последние дни Пушкина», Булгаков, очевидно, не прошёл мимо и этого свидетельства об одном из мистических случаев с Пушкиным. Сам Пушкин отразил подобный сюжет в пьесе «Моцарт и Сальери», включив сцену мистического визита неизвестного «чёрного человека», заказавшего Моцарту реквием и так и не явившегося за заказанной мессой. Сцену из рассказа Пушкина о незнакомце, явившемся во время спора с приятелем, обсуждавших религиозные вопросы и позволивших себе нигилизм и скепсис в отношении веры, Булгаков затем вставляет в своё повествование о визите незнакомца, вступившего в теологический спор между Берлиозом и Бездомным. Если у Пушкина таинственный визитер своим появлением внушил приятелям лишь некий страх, парализовавший их, то Иван Бездомный в романе Булгакова после визита незнакомца («кого-то, кто поразил его воображение», по словам профессора Стравинского), попадает в клинику для душевнобольных.
Видение литераторов как экстатический сон. Божественная инспирация прозрения. Замечание Пушкина о том, что случившееся с ним во время беседы с графом Ланским «не могло быть видением, потому что одинаковых видений у двух человек быть не может», – Булгаков использует чуть ли не буквально в своём романе. Когда его герой Бездомный рассуждает о характере видений, пригрезившихся ему наяву, он не сразу может понять, сон ли это или что-то другое, но приходит к выводу, что ему и находящемуся рядом с ним Берлиозу не мог присниться один и тот же сон: «Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор <Воланд>, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу» (гл. 3). Вывод, который здесь делает Бездомный, очень напоминает тот, который делает сам Пушкин, отзываясь о явлении таинственного незнакомца: «Это не могло быть видением, потому что одинаковых видений у двух человек быть не может».
Художественная параллель «Воланд-Меркурий». Семь Витков Спирали. Вопреки всем обстоятельствам рассказ Воланда литераторы воспринимают как некий сон или наваждение. Это состояние можно сравнить также с забытьем, переживание которого героями Булгаков трактует в знаменитом изречении об «исколотой памяти». Мифологема «исколотой памяти» возникает у Булгакова, скорее всего, как реминисцентная и связанная с пушкинской строчкой о «памяти унылой» из «Морфея» (1816). В контексте пушкинского стихотворения о Морфее как божестве сна и памяти, не только Мастер в своих переживаниях расставания с Маргаритой призывает: «Приди… Приди!», когда он молит и взывает к ней вернуться быстрее, но он делает это, совсем как лирический герой стихотворения Пушкина «Морфей», призывающий Бога Морфея:
Приди, …! <…>
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
Приди! <…>
…
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пушкин А. С. К Морфею (1816)
Все эти призывы, которых достаточно много звучит в романе («О боги, мои боги!»), действительно играют роль инвокаций (инвоцируют затем появление потусторонних существ и призраков).
Рассказ Воланда о суде Пилата над Иешуа, разворачиваясь как некое видение из прошлого, вводит в транс и экстатический сон поэта и редактора, сон наяву, от которого они очнулись только ближе к вечеру. Этот поворот сюжета в романе отсылает нас не только к воспоминаниям Пушкина – к к его рассказу о внезапно появившемся в его доме незнакомце, но также и к подобному сюжету в стихотворении Пушкина «Пророк» – с видением картин мира, открывшихся преображенному новому сознанию поэта благодаря шестикрылому Серафиму, слетевшему к нему в пустыне (вспомним при этом нарочитое упоминание Булгаковым пустынных улиц Москвы), когда пушкинский поэт пребывал в «пустыне» мира: «Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он».
Воланд также в сцене Булгакова, словно Морфей, «перстами легкими зениц коснувшись», наводит сон на московских литераторов с Патриарших прудов. Булгаков прибегает к своему излюбленному приёму – развёртывания пушкинской метафоры буквально. Воланд (в литературной родословной которого есть и змей-искуситель и ниспадший ангел-серафим, которым он был, «так давно, что не грех и забыть», как говорит чёрт у Достоевского), проявляет здесь ещё одно своё свойство – мага и теурга, каким у древних греков и римлян почитались божества Меркурий-Гермес. Воланд проводит подобный сеанс теургии, после которого поэт Бездомный почувствовал себя проснувшимся (как «человек, только что очнувшийся»): «Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. – подумал Бездомный в изумлении, – ведь вот уже и вечер! А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?» (гл. 3).
Такое объяснение необъяснимого факта сна наяву действительно звучит у Бездомного совсем как парафраз пушкинских строк из «Пророка» о сне, навеянном на героя ангелом: «Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он». Крылатое божество Меркурий, в честь которого названа ближайшая к Солнцу планета Меркурий (Звезда Гермеса в греческой традиции), которую Воланд упоминает в своём пророчестве о смерти Берлиоза («Меркурий во втором доме»), упоминается в «Тени Фонвизина» Пушкина как проводник в иные миры. Пушкин рисует Меркурия божеством, которое управляет психопомпосом – переселением душ из одного мира в другой. Но именно Меркурия древние римляне почитали также как автора таинственной оккультной рукописи, которая поведала людям о том, что их судьбы связаны с судьбами планет, с транзитом планет через созвездия.
Греки звали Меркурия Гермесом. Древние жрецы следовали знаниям Меркурия-Гермеса о строении Вселенной, переданными в его рукописи. Гермес-Меркурий (называемый также Пушкиным Эрмий), прозванный Трисмегистом (трехипостасным и владеющим тремя мирами) в своём трактате учил: «Нижние миры – это подобие верхних». Но можно вспомнить также и все другие латентные фигуры античных богов, которые были ответственны за переселение душ, в том числе и Морфея, вестника богов, «нашёптывавшего» людям вещие сны, посредника между тремя мирами – Аидом, Землей и Олимпом. Планета Меркурий, названная в честь Бога Меркурий, – первая по своему расположению от Солнца, поэтому Меркурий в античных мифах не только повелитель Солнца, он и устроитель социума и изобретатель новых вещей. Он открыл своим ученикам Бога в человеке и человека в Боге. Подобно греческому Гермесу, римский Меркурий был сыном весенней богини Майи. Поэтому жертвы Меркурию и его матери приносились до начала календарного лета, в последние недели мая, в майские иды.
Действие романа Булгакова происходит именно в этот календарный период. В романе несколько раз упоминается о месяце мае. Парадигма календарных праздников, на которой построена хронология романа Булгакова, имеет отношение как к еврейской, так и христианской Пасхе, но в этой парадигме отразились также и традиции прототипического архаического древнего Майского праздника. В античной мифологии Меркурий-Гермес почитался также как глава чародеев, даритель благ; любая удача считалась даром Гермеса. Но со временем образ Гермеса-Меркурия в мифологии становится олицетворением хитрости и плутовства.
Этот концепт Воланда как таинственного гостя, путешествующего по иным мирам, сближающий его с божеством Меркурия-Гермеса присутствует в романе Булгакова. В образе Воланда присутствует также и концепт мага и чародея, иллюзиониста, осыпавшего публику своими «дарами» в виде дождя из червонцев. Воланд, которому хорошо известен был древний Ершалаим (ибо он лично присутствовал: «И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал»), прибывает теперь в Москву и дает сеанс чёрной магии. Хитрости и плутовства при этом Воланду не занимать, как и персонажам из его свиты. Вместе со своей свитой он дурит и обманывает простодушную московскую публику, придумывая свои блистательные фокусы, становясь олицетворением хитрости и плутовства, как Гермес в мифах о его плутовских проделках.
Тени иных миров у Пушкина и Булгакова. Доказывая свою принадлежность миру Теней, Воланд у Булгакова в одном из эпизодов устраивает на башне перформанс с солнечными часами, демонстрируя, как осуществляется переход от Света к Тьме. Левий Матвей (прототип апостола и евангелиста Св. Матфея) появляется в этой сцене тоже не случайно. Их встреча продиктована концептом самой сцены. Появление Левия, слетевшего, словно ангел-вестник, на крышу московского здания, напоминает сцену из поэмы-мениппеи Пушкина «Тень Фонвизина» (1818), в которой Пушкиным нарисована иерархия «небесных адских сил» во главе с Фебом (главой мира Теней) и его свитой из пределов Света и Тьмы («мрачного теней жилища»). Проводником из пределов Света («светлы сени», по выражению Пушкина) является крылатый Меркурий («богов посланник молодой»), которого Пушкин в поэме называет также на греческий манер – Эрмием:
Небес оставя светлы сени,
С крылатой шапкой набекрени,
Богов посланник молодой
Слетает вдруг к нему <поэту Фонвизину> стрелой.
«Пойдем, – сказал Эрмий поэту, —
Я здесь твоим проводником,
Сам Феб меня просил о том…
Пушкин А. С. «Тень Фонвизина» (1818)
Булгаков подхватывает эту, нарисованную Пушкиным иерархию «адских сил» (среди богов, ангелов и архангелов) и саму идею небесной иерархии в целом. В булгаковском романе-меннипее она, как и у Пушкина, тоже представлена героями-проводниками душ через иные миры. Своего Левия Матвея Булгаков неожиданно представляет в этой ключевой сцене проводником из светлых миров, который может просить и договариваться и с самим Воландом («повелителем Теней» и представителем темных миров), и это совсем по Пушкину, у которого Феб договаривается с Плутоном, чтобы Меркурий исполнил миссию проводника поэта Фонвизина, задумавшего путешествовать из Мира Теней в Мир дольний, в Россию:
…меня Плутон
Из мрачного теней жилища
С почетным членом адских сил
Сюда на время отпустил.
Пушкин А. С. «Тень Фонвизина» (1818)
Отголоски этого пушкинского диалога между богами и ангелами мы услышим и в романе Булгакова в его сцене на башне московского здания, где Левий просит Воланда от имени самого Иешуа сопровождать Мастера в пределы Покоя, как у Пушкина Феб от имени Плутона просит Меркурия-Эрмия сопровождать поэта Фонвизина из царства Плутона (царства Теней) в мир дольний.
Мотив полёта ведьмы на шабаш и другие мистические пушкинские мотивы
А н г е л: …мне были новы…
Его <демона> улыбка, чудный взгляд…
Д е м о н: На жизнь <я> насмешливо глядел…
А н г е л: Печальны были наши встречи…
Реконструировано нами по
«Демону» Пушкина А. С.
Уже в ходе такой реконструкции, которой мы подвергли здесь текст пушкинского стихотворения и которая заменяет нам длительный структурный анализ, обнаруживается глубокая внутренняя диалогичность и контрапунктный характер произведения Пушкина (содержащий «pro и contra»).
Подобный приём обнаруживается и у Булгакова в его сцене на Патриарших. Прежде чем Воланд, «дух зла», начинает предъявлять одно за другим свои contra (отрицания положений, выдвигаемых литераторами), Берлиоз трижды и более отрёкся от Бога и трижды от сына Божиего. Воланд, конечно, провоцировал его на это своими речами и вопросами:
В о л а н д: «… вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращаясь к Берлиозу.
Б е р л и о з: «Нет, вы не ослышались».
«…никого не было, в том числе и Иисуса».
Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз,
Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз.
«…большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге».
«…никакого доказательства существования бога быть не может».
Дальнейшая беседа литераторов с Воландом развивается у Булгакова в русле тех антиномий, которые выстраивает и Пушкин в «Демоне». Булгаков в своей сцене поддерживает пушкинскую структуру диалога с отрицающим демоном («духом отрицания»). И булгаковский Воланд, «дух зла», совершенно с запалом пушкинского «злобного гения» отрицает все, что пытается говорить ему Берлиоз:
Б е р л и о з: «…никого не было, в том числе и Иисуса».
В о л а н д: «Имейте в виду, что Иисус существовал».
Б е р л и о з: «…в области разума никакого доказательства существования бога быть не может».
В о л а н д: «…а как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?»
Б е р л и о з: «…в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать».
В о л а н д: «Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец. <…> …заседание не состоится».
Б е р л и о з: «Но требуется же какое-нибудь доказательство…»
В о л а н д: «И доказательств никаких не требуется».
Б е р л и о з: «… <мы> придерживаемся другой точки зрения».
В о л а н д: « А не надо никаких точек зрения!»
Чутко уловив интонации пушкинского демона («духа отрицающего»), Булгаков передаёт их слишком уж нарочито и в своём диалоге Воланда и Берлиоза как «pro и contra» (с отсылкой также к Достоевскому с его спором черта и Ивана Карамазова).
В сцене на Патриарших мы найдём у Булгакова и другие скрытые реминисценции из Пушкина и Достоевского. Когда Воланд говорит: «…вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого…», – это он не только имитирует смешки черта, который являлся Ивану Карамазову, но глумясь таким образом над Берлиозом, своеобразно переосмысливает и перефразирует пушкинские строки из стихотворения «Пора, мой друг, пора!»: «…каждый час уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем Предполагаем жить, и глядь – как раз умрем». Эти пушкинские строки аллюзивно звучат и в названиях глав романа Булгакова: «Пора, пора!»
Мистическая встреча Пушкина. Пушкин-мистик был непревзойденным рассказчиком своих мистический историй. По воспоминаниям Анны Керн, он был всегда желанным гостем в литературных салонах Петербурга и Москвы. Все без исключения любили слушать его завораживающие слушателей рассказы, полные мистики («Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи» А. П. Керн). По воспоминаниям А. П. Керн, «… в одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в Подснежнике». Действительно, этот рассказ Пушкина («Сказка про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров») был записан за ним и издан позже (1827—1828) молодым литератором Владимиром Павловичем Титовым (1807—1891), посещавшим литературные собрания у Дельвига. Повесть была напечатана В. Титовым с согласия Пушкина в альманахе «Северные цветы» за 1829 год под названием «Уединенный домик на Васильевском» под вымышленным именем автора Тита Космократова (эту повесть и сейчас также печатают в полных собраниях сочинений Пушкина).
Другую мистическую историю, рассказанную Пушкиным, воспроизводит в своих воспоминаниях один из его современников. Как-то Александр Сергеевич беседовал со своим приятелем графом Ланским. Речь зашла о религии, и оба наперебой принялись подвергать ее едким и колким насмешкам. Вдруг в комнату, где они сидели, вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского, а тот – за знакомого Пушкина. Подсев к ним, вошедший тотчас включился в беседу и мгновенно обезоружил их доводами в пользу религии. И хотя оба приятеля слыли страстными спорщиками, они обескураженно примолкли, не зная, что сказать. Возникшую паузу следовало прервать, и граф с поэтом сделали это, согласившись, что, пожалуй, были неправы и теперь совершенно изменили свое мнение. Тогда гость встал и, простившись с ними, вышел.
Некоторое время оставшиеся одни, Пушкин и граф Ланской молчали, когда же заговорили, то выяснилось, что ни тот ни другой не знали молодого человека. Они позвали многочисленную прислугу, бывшую в доме, но дворня в один голос утверждала, что никто из посторонних здесь не появлялся, а в барскую комнату вообще никто не заходил. Тогда только Ланской и Пушкин признались друг другу, что таинственный визитер одним своим появлением внушил им какой-то страх, парализовавший их. Александр Сергеевич, рассказывая о случившемся своим знакомым, говорил: «Это не могло быть видением, потому что одинаковых видений у двух человек быть не может, мы же не просто видели его наяву, мы разговаривали с ним, ощущали тепло, исходящее от него, чувствовали дыхание». Поэт говорил, что его мучал только один вопрос – был ли незваный гость посланцем от Бога – ангелом, несущим какую-то весть и направляющим на путь истинный, или же от демона. Уж очень скверное ощущение осталось от общения с ним – не радость и облегчение, как после молитвы, а ужас и страх».
Тщательно, до мельчайших деталей изучавший биографию поэта во время написания своей пьесы «Последние дни Пушкина», Булгаков, очевидно, не прошёл мимо и этого свидетельства об одном из мистических случаев с Пушкиным. Сам Пушкин отразил подобный сюжет в пьесе «Моцарт и Сальери», включив сцену мистического визита неизвестного «чёрного человека», заказавшего Моцарту реквием и так и не явившегося за заказанной мессой. Сцену из рассказа Пушкина о незнакомце, явившемся во время спора с приятелем, обсуждавших религиозные вопросы и позволивших себе нигилизм и скепсис в отношении веры, Булгаков затем вставляет в своё повествование о визите незнакомца, вступившего в теологический спор между Берлиозом и Бездомным. Если у Пушкина таинственный визитер своим появлением внушил приятелям лишь некий страх, парализовавший их, то Иван Бездомный в романе Булгакова после визита незнакомца («кого-то, кто поразил его воображение», по словам профессора Стравинского), попадает в клинику для душевнобольных.
Видение литераторов как экстатический сон. Божественная инспирация прозрения. Замечание Пушкина о том, что случившееся с ним во время беседы с графом Ланским «не могло быть видением, потому что одинаковых видений у двух человек быть не может», – Булгаков использует чуть ли не буквально в своём романе. Когда его герой Бездомный рассуждает о характере видений, пригрезившихся ему наяву, он не сразу может понять, сон ли это или что-то другое, но приходит к выводу, что ему и находящемуся рядом с ним Берлиозу не мог присниться один и тот же сон: «Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор <Воланд>, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу» (гл. 3). Вывод, который здесь делает Бездомный, очень напоминает тот, который делает сам Пушкин, отзываясь о явлении таинственного незнакомца: «Это не могло быть видением, потому что одинаковых видений у двух человек быть не может».
Художественная параллель «Воланд-Меркурий». Семь Витков Спирали. Вопреки всем обстоятельствам рассказ Воланда литераторы воспринимают как некий сон или наваждение. Это состояние можно сравнить также с забытьем, переживание которого героями Булгаков трактует в знаменитом изречении об «исколотой памяти». Мифологема «исколотой памяти» возникает у Булгакова, скорее всего, как реминисцентная и связанная с пушкинской строчкой о «памяти унылой» из «Морфея» (1816). В контексте пушкинского стихотворения о Морфее как божестве сна и памяти, не только Мастер в своих переживаниях расставания с Маргаритой призывает: «Приди… Приди!», когда он молит и взывает к ней вернуться быстрее, но он делает это, совсем как лирический герой стихотворения Пушкина «Морфей», призывающий Бога Морфея:
Приди, …! <…>
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
Приди! <…>
…
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пушкин А. С. К Морфею (1816)
Все эти призывы, которых достаточно много звучит в романе («О боги, мои боги!»), действительно играют роль инвокаций (инвоцируют затем появление потусторонних существ и призраков).
Рассказ Воланда о суде Пилата над Иешуа, разворачиваясь как некое видение из прошлого, вводит в транс и экстатический сон поэта и редактора, сон наяву, от которого они очнулись только ближе к вечеру. Этот поворот сюжета в романе отсылает нас не только к воспоминаниям Пушкина – к к его рассказу о внезапно появившемся в его доме незнакомце, но также и к подобному сюжету в стихотворении Пушкина «Пророк» – с видением картин мира, открывшихся преображенному новому сознанию поэта благодаря шестикрылому Серафиму, слетевшему к нему в пустыне (вспомним при этом нарочитое упоминание Булгаковым пустынных улиц Москвы), когда пушкинский поэт пребывал в «пустыне» мира: «Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он».
Воланд также в сцене Булгакова, словно Морфей, «перстами легкими зениц коснувшись», наводит сон на московских литераторов с Патриарших прудов. Булгаков прибегает к своему излюбленному приёму – развёртывания пушкинской метафоры буквально. Воланд (в литературной родословной которого есть и змей-искуситель и ниспадший ангел-серафим, которым он был, «так давно, что не грех и забыть», как говорит чёрт у Достоевского), проявляет здесь ещё одно своё свойство – мага и теурга, каким у древних греков и римлян почитались божества Меркурий-Гермес. Воланд проводит подобный сеанс теургии, после которого поэт Бездомный почувствовал себя проснувшимся (как «человек, только что очнувшийся»): «Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. – подумал Бездомный в изумлении, – ведь вот уже и вечер! А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?» (гл. 3).
Такое объяснение необъяснимого факта сна наяву действительно звучит у Бездомного совсем как парафраз пушкинских строк из «Пророка» о сне, навеянном на героя ангелом: «Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он». Крылатое божество Меркурий, в честь которого названа ближайшая к Солнцу планета Меркурий (Звезда Гермеса в греческой традиции), которую Воланд упоминает в своём пророчестве о смерти Берлиоза («Меркурий во втором доме»), упоминается в «Тени Фонвизина» Пушкина как проводник в иные миры. Пушкин рисует Меркурия божеством, которое управляет психопомпосом – переселением душ из одного мира в другой. Но именно Меркурия древние римляне почитали также как автора таинственной оккультной рукописи, которая поведала людям о том, что их судьбы связаны с судьбами планет, с транзитом планет через созвездия.
Греки звали Меркурия Гермесом. Древние жрецы следовали знаниям Меркурия-Гермеса о строении Вселенной, переданными в его рукописи. Гермес-Меркурий (называемый также Пушкиным Эрмий), прозванный Трисмегистом (трехипостасным и владеющим тремя мирами) в своём трактате учил: «Нижние миры – это подобие верхних». Но можно вспомнить также и все другие латентные фигуры античных богов, которые были ответственны за переселение душ, в том числе и Морфея, вестника богов, «нашёптывавшего» людям вещие сны, посредника между тремя мирами – Аидом, Землей и Олимпом. Планета Меркурий, названная в честь Бога Меркурий, – первая по своему расположению от Солнца, поэтому Меркурий в античных мифах не только повелитель Солнца, он и устроитель социума и изобретатель новых вещей. Он открыл своим ученикам Бога в человеке и человека в Боге. Подобно греческому Гермесу, римский Меркурий был сыном весенней богини Майи. Поэтому жертвы Меркурию и его матери приносились до начала календарного лета, в последние недели мая, в майские иды.
Действие романа Булгакова происходит именно в этот календарный период. В романе несколько раз упоминается о месяце мае. Парадигма календарных праздников, на которой построена хронология романа Булгакова, имеет отношение как к еврейской, так и христианской Пасхе, но в этой парадигме отразились также и традиции прототипического архаического древнего Майского праздника. В античной мифологии Меркурий-Гермес почитался также как глава чародеев, даритель благ; любая удача считалась даром Гермеса. Но со временем образ Гермеса-Меркурия в мифологии становится олицетворением хитрости и плутовства.
Этот концепт Воланда как таинственного гостя, путешествующего по иным мирам, сближающий его с божеством Меркурия-Гермеса присутствует в романе Булгакова. В образе Воланда присутствует также и концепт мага и чародея, иллюзиониста, осыпавшего публику своими «дарами» в виде дождя из червонцев. Воланд, которому хорошо известен был древний Ершалаим (ибо он лично присутствовал: «И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал»), прибывает теперь в Москву и дает сеанс чёрной магии. Хитрости и плутовства при этом Воланду не занимать, как и персонажам из его свиты. Вместе со своей свитой он дурит и обманывает простодушную московскую публику, придумывая свои блистательные фокусы, становясь олицетворением хитрости и плутовства, как Гермес в мифах о его плутовских проделках.
Тени иных миров у Пушкина и Булгакова. Доказывая свою принадлежность миру Теней, Воланд у Булгакова в одном из эпизодов устраивает на башне перформанс с солнечными часами, демонстрируя, как осуществляется переход от Света к Тьме. Левий Матвей (прототип апостола и евангелиста Св. Матфея) появляется в этой сцене тоже не случайно. Их встреча продиктована концептом самой сцены. Появление Левия, слетевшего, словно ангел-вестник, на крышу московского здания, напоминает сцену из поэмы-мениппеи Пушкина «Тень Фонвизина» (1818), в которой Пушкиным нарисована иерархия «небесных адских сил» во главе с Фебом (главой мира Теней) и его свитой из пределов Света и Тьмы («мрачного теней жилища»). Проводником из пределов Света («светлы сени», по выражению Пушкина) является крылатый Меркурий («богов посланник молодой»), которого Пушкин в поэме называет также на греческий манер – Эрмием:
Небес оставя светлы сени,
С крылатой шапкой набекрени,
Богов посланник молодой
Слетает вдруг к нему <поэту Фонвизину> стрелой.
«Пойдем, – сказал Эрмий поэту, —
Я здесь твоим проводником,
Сам Феб меня просил о том…
Пушкин А. С. «Тень Фонвизина» (1818)
Булгаков подхватывает эту, нарисованную Пушкиным иерархию «адских сил» (среди богов, ангелов и архангелов) и саму идею небесной иерархии в целом. В булгаковском романе-меннипее она, как и у Пушкина, тоже представлена героями-проводниками душ через иные миры. Своего Левия Матвея Булгаков неожиданно представляет в этой ключевой сцене проводником из светлых миров, который может просить и договариваться и с самим Воландом («повелителем Теней» и представителем темных миров), и это совсем по Пушкину, у которого Феб договаривается с Плутоном, чтобы Меркурий исполнил миссию проводника поэта Фонвизина, задумавшего путешествовать из Мира Теней в Мир дольний, в Россию:
…меня Плутон
Из мрачного теней жилища
С почетным членом адских сил
Сюда на время отпустил.
Пушкин А. С. «Тень Фонвизина» (1818)
Отголоски этого пушкинского диалога между богами и ангелами мы услышим и в романе Булгакова в его сцене на башне московского здания, где Левий просит Воланда от имени самого Иешуа сопровождать Мастера в пределы Покоя, как у Пушкина Феб от имени Плутона просит Меркурия-Эрмия сопровождать поэта Фонвизина из царства Плутона (царства Теней) в мир дольний.
Мотив полёта ведьмы на шабаш и другие мистические пушкинские мотивы