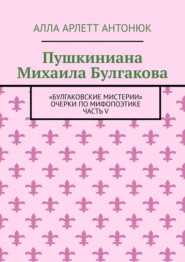По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Духовные путешествия героев А. С. Пушкина. Очерки по мифопоэтике. Часть I
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тема «ночного пути»
«Кони стали…»
«Бесы» (1830)
Запутывающее начало, наваждение, как мы могли видеть это у Пушкина, всегда связано с мотивом дороги, который является одним из структурных компонентов, объединяющих все пушкинские сцены встречи с невидимыми духами и их весельем на «шабаше». Олицетворяя силы зла, метафизическая сущность которых всегда напрямую связана с потусторонностью, Пушкин пытается добраться до сути самого этого зла и познать его природу. Рисуя инфернальные сцены, он апеллирует не только к гётевской манере. Его сцены восходят, как мы это могли видеть, и к фантазиям Данте Алигьери, и к Откровению Иоанна Богослова. Не только его стихотворение 1824 года «И дале мы пошли…» является реминисценцией дантовского «Ада» («Божественная комедия»). Отголоски фантазий Данте мы найдем и в его стихотворении «Бесы» (1830), и во «Сне Татьяны». Безусловно, у Пушкина в его сценах находит также свое яркое отражение и принцип романтического двоемирия.
Мало кто сейчас читает его образ дороги как масонскую аллегорию о странствиях и приключениях души человеческой (богини Астреи в Золотом веке). Картины ночного пути по засыпанным снегом пустынным и бесконечным русским равнинам мы встречаем у Пушкина во многих его стихах: «Телега жизни» (1823), «Зимний вечер» (1825), «Зимняя дорога» (1825), «Элегия» (1830), «Ответ анониму» (1830), «Дорожные жалобы» (1830) …. Пушкинская пространственно-моторная символика этих стихов придаёт физическому движению героя в пространстве значение жизненного пути. При более пристальном рассмотрении эта тема оказывается чуть ли не ведущей в его творчестве 20-х—30-х годов. Это, конечно, не просто индивидуальный стиль Пушкина или его личное мировоззрение, а скорее масонская философия истории, орденская эсхатология, имевшая отражение ещё в тяжеловесной поэзии позднего русского барокко Державина и других русских поэтов с их «гиероглифическим» стилем, прошедшим через школу европейского классицизма и философию Просвещения. Но со временем мотив дороги приобретает у Пушкина всё более широкий смысл – смысл духовного пути.
Вводя этот образ-символ, он нагружает его религиозно-нравственным подтекстом: пушкинский герой пытается найти в себе высшие внутренние силы и чувства, понять самого себя и усовершенствовать. Отсюда и повторяемая аллегория ночного путника, странника, идущего сквозь испытания и познание мира к некой высокой истине. Но это также и мотив дьявольского пути, мотив лунной дороги, мотив истинного и ложного пути, связанный с нравственным выбором человека.
Тема странствия души находит у Пушкина своё воплощение и внутреннее развитие и во «Сне Татьяны» (1825), и в стихотворении «Бесы» (1830), где она осложняется, как мы видели, фантастическими мотивами бесовских сил, настигших «запоздалого путника» в час «шабаша». Переосмысливая этот сюжет о «запоздалом путнике», подвергшемся вмешательству в его судьбу дьявольской силы, Пушкин поддерживает и фольклорно-мифологическую, и романтическую традицию, и масонскую эсхатологию, и философию странствия души. И благодаря сопряжению разных философий в его произведениях открывается их второй, глубинный пласт.
Мотивы архетипичных сюжетов у Пушкина, выделенные нами в ходе небольших реконструкций, вполне находят также своё совпадение с основными мотивами мифа о героическом путешествии. Бесконечно повторяющийся из произведения в произведение пушкинский сюжет о «запоздалом путнике» легко накладывается на сетку этого архаичного мифа, ещё называемого в литературоведении «мономифом» (или универсальным «мифом о путешествии»).
Обоснованием мономифа как вечного сюжета мы обязаны Джозефу Кэмпбеллу, который, проанализировав множество мифов, в 1949 году в своей книге «Тысячеликий герой» выделил составляющие мифотворчества и раскрыл значение многочисленных метафор, которые в нём проявляются. Кэмпбелл показал, как мономиф повторяется на разных художественных уровнях в культурах разных времён и народов. Сохранявший в готовых формах своеобразные представления человека об испытаниях его жизнью и судьбой, этот миф, словно матрица, всегда был актуален для Пушкина, как и для многих поколений человечества вообще (в слове, в музыке и в самых различных видах идеологии). Пушкин с удивительной настойчивостью и последовательностью прорабатывает этот миф в совершенно несовместимых разнородных и разностилевых художественных пластах своего творчества.
Герой мономифа подвергается коренному преобразованию в ряде необычных испытаний и, в конце концов, воссоединяется вновь со своим сообществом, но уже в новой для него роли. Так же как и Герой Пушкина, по своей воле или под действием какой-то внешней силы («Всевышней волею Зевеса»), он часто оставляет свою привычную среду и отправляется в Путь:
………….молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса…
«Евгений Онегин» (1; I)
Прибегая к своей необычайной художественной интуиции, Пушкин находит крайне необходимым для себя этот довольно архаичный сюжет о «путнике», отправляющемся в свое авантюрное приключение. Из строчек выше мы видим, что даже такого своего героя, как Онегин, он олицетворяет с героем мономифа. Его Онегин также «пускается в путь» «по тайной воле провиденья» – «всевышней волею Зевеса» (бога Зевса).
В сюжете мономифа воспроизводится всегда одна и та же ритуальная последовательность архетипических актов: нисхождение?возвращение героя или же его смерть?воскрешение в результате прохождения через потусторонние миры – то, что мы называем мифологемой и то, что Кэмпбелл назвал схемой универсального мономифа (либо картой странствий героя). Архаичный сюжет о «путнике» («запоздалом путнике») отсылает читателя, таким образом, к древним представлениям человечества о потустороннем мире.
В пушкинском «запоздалом путнике», совершающем ночное путешествие, каким мы видим его, например, во «Сне Татьяны» (1825), совершенно не трудно обнаружить его идентификацию с универсальным героем, символически проходящим через нисхождение и возвращение, через всевозможные трансформации и, наконец, созревающим для принятия новой социальной роли и культурной миссии («Кто там в малиновом берете// С послом испанским говорит?»; «Уже ль та самая Татьяна?»)
Разработку архаического сюжета мы встретим во множестве его произведений, порой совершенно различных по своей стилевой окраске.
Нужно конечно оговориться, что если в «Женихе» (1825) и «Гусаре» (1833) сюжет скорее предполагает работу художника по технике, целью которой было лишь разрешить вопросы ремесла, то во «Сне Татьяны» (1825) и в «Бесах» (1830), создавая свои «живые картины» «шабашей» и «пиров чудовищ», Пушкин решает важнейшую художественную задачу – воплощение глобальной идеи испытания героя и в этом он смыкается с мировым «мономифом».
Говоря о генезисе пушкинской сцены во «Сне Татьяны», можно сказать, что она, восходя к архетипическому изображению «загробного мира», возможно, не связана ни общим по происхождению источником, ни заимствованием. Мы видели уже, что параллельные явления в литературе, фольклоре и искусстве могут происходить и иными путями. Одинаковые формы сюжетов, восходящих к мифам и обрядам, могут иметь одинаковый генезис и просто из человеческой психики, которая на известной стадии развития всегда равно проявляется у разных народов и в их творчестве.
Тема, однако, здесь остаётся всё та же – странствие человеческой души-Психеи, её любовь и возвышение, прикосновение к светлой вечной тайне мира и неспособность сохранить это тайное знание и следовать ему, приводящее к падению и потере «света». Но что особенно важно для нас, читателей Пушкина, что именно здесь, в подобных сценах, кроются возможности духовного возрождения человека.
Пушкин решает важнейшую художественную задачу – воплощение глобальной идеи испытания героя судьбой, которое он аллегорически рисует прохождением через иное (инфернальное) пространство.
Как же герой попадает в это пространство?
Сюжет о «запоздалом путнике»
И было поздно…
«Жених» (1825)
Мотив «запоздалого путника», который мы так часто находим у Пушкина, был достаточно распространён и любим западными романтиками. Ко многим своим произведениям с инфернальной окраской сюжета, в том числе и к «Медному всаднику» (1833), Пушкин мог бы сделать эпиграфом переведённую в 1818 году В. Жуковским балладу Гёте «Лесной царь»:
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой…
…………………………………………………
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.
И. Гёте «Лесной царь», 1782
(Пер. В. Жуковского, 1818)
Не та же ли метафора «дороги домой» в ночи, осложнённая инфернальными мотивами, находит своё место и у Пушкина? Не только в «Бесах» (1830), но затем и в «Медном всаднике» (1833) – в озарении мертвенного лунного света показано фантасмагорическое «тяжёло-звонкое скаканье» за спиной героя – зловещее преследование его инфернальной силой – всадником на бронзовом коне:
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
«Медный всадник» (1833)
У Гёте в речах его Ольхового короля – царя водно-лесных стихий и дьявола в «тёмной короне» («лесной царь» в переводе Жуковского) – мы слышим соблазняющие путника речи: «Веселого много в моей стороне: //Цветы бирюзовы, жемчужны струи; //Из золота слиты чертоги мои» (пер. Жуковского). Не те же ли соблазняющие картины некого чудного подводного царства слышим мы затем и в пушкинской оде Петербургу, городу на воде: «По оживленным берегам //Громады стройные теснятся //Дворцов и башен; //… ///Мосты повисли над водами; //Темно-зелеными садами…». При этом Пушкин передаёт какое-то особое единство царя Петра с его градом, ставшим действительно неким подводным (болотным) царством во время наводнения. В момент описания разгула водной стихии на Неве Пушкин вдруг действительно неожиданно упоминает мифическое существо (сродни гётевскому Ольховому королю – властителю речной и прибрежной стихии), только названному здесь у Пушкина Тритоном:
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружён.
«Медный всадник» (1833)
Возникающая затем в поэме линия Евгения, бедного жителя этого города, включает мотив «ночного пути» и встречу на этом пути с демоническим существом – ожившей статуей. Здесь сюжет осложняется также фольклорным мотивом «поиска утраченной невесты» и отправлением за ней в путешествие «по ту сторону» реки Невы, собственно, переосмысленное Пушкиным как схождение в потусторонность.
В «Гробовщике» (1830) также в своеобразной аллегории, построенной на развёртывании языкового тропа «жизненный путь», мы видим в фантастической сцене «Сна» позднее возвращение домой гробовщика Адриана Прохорова, до самой полуночи обустраивавшего похороны купчихи Трюхиной, и последующее за ним явление «ночных гостей» – мертвецов, в чьих ужасающих объятиях он затем оказывается. Сюжет «Гробовщика» можно также рассматривать как своеобразное развёртывание темы «ночного пути», содержащее мотив «запоздалого путника». Заглянув в потусторонность, пушкинский Гробовщик видит себя там со стороны – погребённым под грудой мертвецов. Сравнивая мотивы повести «Гробовщик» (1830) со стихотворением «Элегия» (1830), Петрунина Н. Н., например, обнаружила в них черты общего художественного замысла: «Жизненный путь, с которого гробовщик в меру своего разумения окидывает взглядом прожитое, даёт ему оценку, обретая в мире земной повседневности силы для будущего существования, вызывает в памяти завершённую днём ранее «Гробовщика» «Элегию, герой которой также предстает на некой жизненной грани, подводя итоги минувшего и, поднявшись над настоящим, возрождается для новой жизни».
Действительно, у Пушкина речь идёт чуть ли не о «возрождении» героя, о тех силах, которые во сне он получает для своего будущего существования через пережитый в этом сне катарсис. Для нас интересно уже то, что герой оказывается на «некой жизненной грани», позволяющей подводить своеобразный итог его жизни (хотя и отмеченный необычными обстоятельствами – встречей с инфернальными силами).
В своём подробном исследовании Петрунина Н. Н. также указала на связь «Гробовщика» с «Бесами». Она увидела в «Гробовщике» «то же ощущение надрывающей сердце тоски, ту же отчужденность от мира и то же одиночество среди враждебных стихий, которые определяют и эмоциональный строй „Бесов“, только выраженные по-своему, на уровне сознания гробовщика Адриана Прохорова, преодолевающего настроения обиды на всё живое и разъединённости с ним».
К этим сравнениям Петруниной Н. Н. нужно только добавить также, что эта же тема своеобразно реализовалась у Пушкина ещё в 1825 году во «Cне Татьяны» в «Евгении Онегине», где также можно обнаружить вариации всё той же темы «ночного пути» и «запоздалого путника» – здесь также Татьяна, застигнута в пути непогодой и разгулявшимися силами «зла». Принадлежащие к разным жанрам и разным стилевым уровням, написанные с разными художественными задачами и в разных эмоциональных ключах, бесконечные переклички этого сюжета о «запоздалом путнике» очень сближают все эти пушкинские произведения. Этот сюжет сращивает в единство такие, казалось бы, различные пушкинские произведения, как «Бесы» и «Сон Татьяны», которые на самом деле взаимопересекаются и частично взаимоналагаются. Такие переклички сюжета образуют по-своему мощное поле, которое позволяет творчеству Пушкина существовать как единое целостное художественное полотно.
Никто из исследователей не делал ещё сравнительного анализа сцен «Бесов» и «Сна Татьяны», а между тем, именно при таком рассмотрении «Сна» – как развития всё той же «темы пути» и Путника, застигнутого тёмными силами в ночи, и может быть понят этот сон.
И в том и другом произведении мы можем обнаружить у Пушкина восходящие к мифопоэтическому сознанию знаки сакрального, которые дают возможность исследовать пушкинские образы и мотивы в мифопоэтическом ключе.
Нельзя не заметить в названных пушкинских эпизодах наличие тех особых маркеров, которые показывают преодоление героями границы миров: это и медиаторы-хроносы (ночь, сумерки, полночь, непогода, время больших праздников); это медиаторы-локативы (конец дороги, речка, ручей, овраг, мостик), медиаторы-агентивы (конь, кот, медведь). Нельзя не заметить, например, что условия продвижения путника в «Бесах» и продвижение Татьяны по снежному лесу во «Сне» – обставлены совершенно особыми сходными обстоятельствами:
Во-первых, ночь и непогода, все дороги заметены вьюгой, метелями, снежные просторы едва освещены луной, и тут на пути возникают эти фантастические картины «адских привидений».
Татьяна «идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена», и путник в «Бесах» говорит о себе: «Еду, еду в чистом поле», «Мутно небо, ночь мутна». Перед Татьяной – лес, «… сквозь вершины… Сияет луч светил ночных»; перед путником из «Бесов» – «неведомые равнины»; «…невидимкою луна освещает снег летучий». И в том и в другом произведении почти на молекулярном текстовом уровне мы встречаемся с описанием, которое, собственно, является топосом потустороннего мира.
Во-вторых, оба путника в состоянии тупика: «Дороги нет, кусты, стремнины Метелью все занесены, Глубоко в снег погружены»[8 - Ср. У Богдановича в «Душеньке»:Вручают все её <Душеньку> хранителям-богам,Ведут на высоту по камням и пескам,Где знака нет дороги.] («Сон Татьяны»); «Вьюга мне слипает очи, все дороги занесло» («Бесы»). Здесь сходства исчерпывающе воплощают повторяющиеся характеристические особенности мотива пушкинского сюжета о «запоздалом путнике».
В-третьих, и тут и там слово «страшно» психологически мотивирует возникающие затем фантастические образы: «Страшно, страшно поневоле средь белеющих равнин» («Бесы»). И это же ощущение безысходности и страха – у Татьяны: «И страшно ей; и торопливо Татьяна силится бежать». Невольный страх у Татьяны вызывают увиденные ею в шалаше чудовища: «Еще страшней, еще чуднее…» (строчка, по замечанию Набокова, так напоминающая строку из «Приключений Алисы в Стране чудес», которые первоначально были задуманы, как мы это упоминали, как путешествие под землей). Пушкинское «страшно поневоле» и «ещё страшней, еще чуднее» точно передают суть традиционных интуиций страха, неразрывно связанных с мифологическим мировосприятием последовательного преодоления порогов мифической дороги.
«Кони стали…»
«Бесы» (1830)
Запутывающее начало, наваждение, как мы могли видеть это у Пушкина, всегда связано с мотивом дороги, который является одним из структурных компонентов, объединяющих все пушкинские сцены встречи с невидимыми духами и их весельем на «шабаше». Олицетворяя силы зла, метафизическая сущность которых всегда напрямую связана с потусторонностью, Пушкин пытается добраться до сути самого этого зла и познать его природу. Рисуя инфернальные сцены, он апеллирует не только к гётевской манере. Его сцены восходят, как мы это могли видеть, и к фантазиям Данте Алигьери, и к Откровению Иоанна Богослова. Не только его стихотворение 1824 года «И дале мы пошли…» является реминисценцией дантовского «Ада» («Божественная комедия»). Отголоски фантазий Данте мы найдем и в его стихотворении «Бесы» (1830), и во «Сне Татьяны». Безусловно, у Пушкина в его сценах находит также свое яркое отражение и принцип романтического двоемирия.
Мало кто сейчас читает его образ дороги как масонскую аллегорию о странствиях и приключениях души человеческой (богини Астреи в Золотом веке). Картины ночного пути по засыпанным снегом пустынным и бесконечным русским равнинам мы встречаем у Пушкина во многих его стихах: «Телега жизни» (1823), «Зимний вечер» (1825), «Зимняя дорога» (1825), «Элегия» (1830), «Ответ анониму» (1830), «Дорожные жалобы» (1830) …. Пушкинская пространственно-моторная символика этих стихов придаёт физическому движению героя в пространстве значение жизненного пути. При более пристальном рассмотрении эта тема оказывается чуть ли не ведущей в его творчестве 20-х—30-х годов. Это, конечно, не просто индивидуальный стиль Пушкина или его личное мировоззрение, а скорее масонская философия истории, орденская эсхатология, имевшая отражение ещё в тяжеловесной поэзии позднего русского барокко Державина и других русских поэтов с их «гиероглифическим» стилем, прошедшим через школу европейского классицизма и философию Просвещения. Но со временем мотив дороги приобретает у Пушкина всё более широкий смысл – смысл духовного пути.
Вводя этот образ-символ, он нагружает его религиозно-нравственным подтекстом: пушкинский герой пытается найти в себе высшие внутренние силы и чувства, понять самого себя и усовершенствовать. Отсюда и повторяемая аллегория ночного путника, странника, идущего сквозь испытания и познание мира к некой высокой истине. Но это также и мотив дьявольского пути, мотив лунной дороги, мотив истинного и ложного пути, связанный с нравственным выбором человека.
Тема странствия души находит у Пушкина своё воплощение и внутреннее развитие и во «Сне Татьяны» (1825), и в стихотворении «Бесы» (1830), где она осложняется, как мы видели, фантастическими мотивами бесовских сил, настигших «запоздалого путника» в час «шабаша». Переосмысливая этот сюжет о «запоздалом путнике», подвергшемся вмешательству в его судьбу дьявольской силы, Пушкин поддерживает и фольклорно-мифологическую, и романтическую традицию, и масонскую эсхатологию, и философию странствия души. И благодаря сопряжению разных философий в его произведениях открывается их второй, глубинный пласт.
Мотивы архетипичных сюжетов у Пушкина, выделенные нами в ходе небольших реконструкций, вполне находят также своё совпадение с основными мотивами мифа о героическом путешествии. Бесконечно повторяющийся из произведения в произведение пушкинский сюжет о «запоздалом путнике» легко накладывается на сетку этого архаичного мифа, ещё называемого в литературоведении «мономифом» (или универсальным «мифом о путешествии»).
Обоснованием мономифа как вечного сюжета мы обязаны Джозефу Кэмпбеллу, который, проанализировав множество мифов, в 1949 году в своей книге «Тысячеликий герой» выделил составляющие мифотворчества и раскрыл значение многочисленных метафор, которые в нём проявляются. Кэмпбелл показал, как мономиф повторяется на разных художественных уровнях в культурах разных времён и народов. Сохранявший в готовых формах своеобразные представления человека об испытаниях его жизнью и судьбой, этот миф, словно матрица, всегда был актуален для Пушкина, как и для многих поколений человечества вообще (в слове, в музыке и в самых различных видах идеологии). Пушкин с удивительной настойчивостью и последовательностью прорабатывает этот миф в совершенно несовместимых разнородных и разностилевых художественных пластах своего творчества.
Герой мономифа подвергается коренному преобразованию в ряде необычных испытаний и, в конце концов, воссоединяется вновь со своим сообществом, но уже в новой для него роли. Так же как и Герой Пушкина, по своей воле или под действием какой-то внешней силы («Всевышней волею Зевеса»), он часто оставляет свою привычную среду и отправляется в Путь:
………….молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса…
«Евгений Онегин» (1; I)
Прибегая к своей необычайной художественной интуиции, Пушкин находит крайне необходимым для себя этот довольно архаичный сюжет о «путнике», отправляющемся в свое авантюрное приключение. Из строчек выше мы видим, что даже такого своего героя, как Онегин, он олицетворяет с героем мономифа. Его Онегин также «пускается в путь» «по тайной воле провиденья» – «всевышней волею Зевеса» (бога Зевса).
В сюжете мономифа воспроизводится всегда одна и та же ритуальная последовательность архетипических актов: нисхождение?возвращение героя или же его смерть?воскрешение в результате прохождения через потусторонние миры – то, что мы называем мифологемой и то, что Кэмпбелл назвал схемой универсального мономифа (либо картой странствий героя). Архаичный сюжет о «путнике» («запоздалом путнике») отсылает читателя, таким образом, к древним представлениям человечества о потустороннем мире.
В пушкинском «запоздалом путнике», совершающем ночное путешествие, каким мы видим его, например, во «Сне Татьяны» (1825), совершенно не трудно обнаружить его идентификацию с универсальным героем, символически проходящим через нисхождение и возвращение, через всевозможные трансформации и, наконец, созревающим для принятия новой социальной роли и культурной миссии («Кто там в малиновом берете// С послом испанским говорит?»; «Уже ль та самая Татьяна?»)
Разработку архаического сюжета мы встретим во множестве его произведений, порой совершенно различных по своей стилевой окраске.
Нужно конечно оговориться, что если в «Женихе» (1825) и «Гусаре» (1833) сюжет скорее предполагает работу художника по технике, целью которой было лишь разрешить вопросы ремесла, то во «Сне Татьяны» (1825) и в «Бесах» (1830), создавая свои «живые картины» «шабашей» и «пиров чудовищ», Пушкин решает важнейшую художественную задачу – воплощение глобальной идеи испытания героя и в этом он смыкается с мировым «мономифом».
Говоря о генезисе пушкинской сцены во «Сне Татьяны», можно сказать, что она, восходя к архетипическому изображению «загробного мира», возможно, не связана ни общим по происхождению источником, ни заимствованием. Мы видели уже, что параллельные явления в литературе, фольклоре и искусстве могут происходить и иными путями. Одинаковые формы сюжетов, восходящих к мифам и обрядам, могут иметь одинаковый генезис и просто из человеческой психики, которая на известной стадии развития всегда равно проявляется у разных народов и в их творчестве.
Тема, однако, здесь остаётся всё та же – странствие человеческой души-Психеи, её любовь и возвышение, прикосновение к светлой вечной тайне мира и неспособность сохранить это тайное знание и следовать ему, приводящее к падению и потере «света». Но что особенно важно для нас, читателей Пушкина, что именно здесь, в подобных сценах, кроются возможности духовного возрождения человека.
Пушкин решает важнейшую художественную задачу – воплощение глобальной идеи испытания героя судьбой, которое он аллегорически рисует прохождением через иное (инфернальное) пространство.
Как же герой попадает в это пространство?
Сюжет о «запоздалом путнике»
И было поздно…
«Жених» (1825)
Мотив «запоздалого путника», который мы так часто находим у Пушкина, был достаточно распространён и любим западными романтиками. Ко многим своим произведениям с инфернальной окраской сюжета, в том числе и к «Медному всаднику» (1833), Пушкин мог бы сделать эпиграфом переведённую в 1818 году В. Жуковским балладу Гёте «Лесной царь»:
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой…
…………………………………………………
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.
И. Гёте «Лесной царь», 1782
(Пер. В. Жуковского, 1818)
Не та же ли метафора «дороги домой» в ночи, осложнённая инфернальными мотивами, находит своё место и у Пушкина? Не только в «Бесах» (1830), но затем и в «Медном всаднике» (1833) – в озарении мертвенного лунного света показано фантасмагорическое «тяжёло-звонкое скаканье» за спиной героя – зловещее преследование его инфернальной силой – всадником на бронзовом коне:
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
«Медный всадник» (1833)
У Гёте в речах его Ольхового короля – царя водно-лесных стихий и дьявола в «тёмной короне» («лесной царь» в переводе Жуковского) – мы слышим соблазняющие путника речи: «Веселого много в моей стороне: //Цветы бирюзовы, жемчужны струи; //Из золота слиты чертоги мои» (пер. Жуковского). Не те же ли соблазняющие картины некого чудного подводного царства слышим мы затем и в пушкинской оде Петербургу, городу на воде: «По оживленным берегам //Громады стройные теснятся //Дворцов и башен; //… ///Мосты повисли над водами; //Темно-зелеными садами…». При этом Пушкин передаёт какое-то особое единство царя Петра с его градом, ставшим действительно неким подводным (болотным) царством во время наводнения. В момент описания разгула водной стихии на Неве Пушкин вдруг действительно неожиданно упоминает мифическое существо (сродни гётевскому Ольховому королю – властителю речной и прибрежной стихии), только названному здесь у Пушкина Тритоном:
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружён.
«Медный всадник» (1833)
Возникающая затем в поэме линия Евгения, бедного жителя этого города, включает мотив «ночного пути» и встречу на этом пути с демоническим существом – ожившей статуей. Здесь сюжет осложняется также фольклорным мотивом «поиска утраченной невесты» и отправлением за ней в путешествие «по ту сторону» реки Невы, собственно, переосмысленное Пушкиным как схождение в потусторонность.
В «Гробовщике» (1830) также в своеобразной аллегории, построенной на развёртывании языкового тропа «жизненный путь», мы видим в фантастической сцене «Сна» позднее возвращение домой гробовщика Адриана Прохорова, до самой полуночи обустраивавшего похороны купчихи Трюхиной, и последующее за ним явление «ночных гостей» – мертвецов, в чьих ужасающих объятиях он затем оказывается. Сюжет «Гробовщика» можно также рассматривать как своеобразное развёртывание темы «ночного пути», содержащее мотив «запоздалого путника». Заглянув в потусторонность, пушкинский Гробовщик видит себя там со стороны – погребённым под грудой мертвецов. Сравнивая мотивы повести «Гробовщик» (1830) со стихотворением «Элегия» (1830), Петрунина Н. Н., например, обнаружила в них черты общего художественного замысла: «Жизненный путь, с которого гробовщик в меру своего разумения окидывает взглядом прожитое, даёт ему оценку, обретая в мире земной повседневности силы для будущего существования, вызывает в памяти завершённую днём ранее «Гробовщика» «Элегию, герой которой также предстает на некой жизненной грани, подводя итоги минувшего и, поднявшись над настоящим, возрождается для новой жизни».
Действительно, у Пушкина речь идёт чуть ли не о «возрождении» героя, о тех силах, которые во сне он получает для своего будущего существования через пережитый в этом сне катарсис. Для нас интересно уже то, что герой оказывается на «некой жизненной грани», позволяющей подводить своеобразный итог его жизни (хотя и отмеченный необычными обстоятельствами – встречей с инфернальными силами).
В своём подробном исследовании Петрунина Н. Н. также указала на связь «Гробовщика» с «Бесами». Она увидела в «Гробовщике» «то же ощущение надрывающей сердце тоски, ту же отчужденность от мира и то же одиночество среди враждебных стихий, которые определяют и эмоциональный строй „Бесов“, только выраженные по-своему, на уровне сознания гробовщика Адриана Прохорова, преодолевающего настроения обиды на всё живое и разъединённости с ним».
К этим сравнениям Петруниной Н. Н. нужно только добавить также, что эта же тема своеобразно реализовалась у Пушкина ещё в 1825 году во «Cне Татьяны» в «Евгении Онегине», где также можно обнаружить вариации всё той же темы «ночного пути» и «запоздалого путника» – здесь также Татьяна, застигнута в пути непогодой и разгулявшимися силами «зла». Принадлежащие к разным жанрам и разным стилевым уровням, написанные с разными художественными задачами и в разных эмоциональных ключах, бесконечные переклички этого сюжета о «запоздалом путнике» очень сближают все эти пушкинские произведения. Этот сюжет сращивает в единство такие, казалось бы, различные пушкинские произведения, как «Бесы» и «Сон Татьяны», которые на самом деле взаимопересекаются и частично взаимоналагаются. Такие переклички сюжета образуют по-своему мощное поле, которое позволяет творчеству Пушкина существовать как единое целостное художественное полотно.
Никто из исследователей не делал ещё сравнительного анализа сцен «Бесов» и «Сна Татьяны», а между тем, именно при таком рассмотрении «Сна» – как развития всё той же «темы пути» и Путника, застигнутого тёмными силами в ночи, и может быть понят этот сон.
И в том и другом произведении мы можем обнаружить у Пушкина восходящие к мифопоэтическому сознанию знаки сакрального, которые дают возможность исследовать пушкинские образы и мотивы в мифопоэтическом ключе.
Нельзя не заметить в названных пушкинских эпизодах наличие тех особых маркеров, которые показывают преодоление героями границы миров: это и медиаторы-хроносы (ночь, сумерки, полночь, непогода, время больших праздников); это медиаторы-локативы (конец дороги, речка, ручей, овраг, мостик), медиаторы-агентивы (конь, кот, медведь). Нельзя не заметить, например, что условия продвижения путника в «Бесах» и продвижение Татьяны по снежному лесу во «Сне» – обставлены совершенно особыми сходными обстоятельствами:
Во-первых, ночь и непогода, все дороги заметены вьюгой, метелями, снежные просторы едва освещены луной, и тут на пути возникают эти фантастические картины «адских привидений».
Татьяна «идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена», и путник в «Бесах» говорит о себе: «Еду, еду в чистом поле», «Мутно небо, ночь мутна». Перед Татьяной – лес, «… сквозь вершины… Сияет луч светил ночных»; перед путником из «Бесов» – «неведомые равнины»; «…невидимкою луна освещает снег летучий». И в том и в другом произведении почти на молекулярном текстовом уровне мы встречаемся с описанием, которое, собственно, является топосом потустороннего мира.
Во-вторых, оба путника в состоянии тупика: «Дороги нет, кусты, стремнины Метелью все занесены, Глубоко в снег погружены»[8 - Ср. У Богдановича в «Душеньке»:Вручают все её <Душеньку> хранителям-богам,Ведут на высоту по камням и пескам,Где знака нет дороги.] («Сон Татьяны»); «Вьюга мне слипает очи, все дороги занесло» («Бесы»). Здесь сходства исчерпывающе воплощают повторяющиеся характеристические особенности мотива пушкинского сюжета о «запоздалом путнике».
В-третьих, и тут и там слово «страшно» психологически мотивирует возникающие затем фантастические образы: «Страшно, страшно поневоле средь белеющих равнин» («Бесы»). И это же ощущение безысходности и страха – у Татьяны: «И страшно ей; и торопливо Татьяна силится бежать». Невольный страх у Татьяны вызывают увиденные ею в шалаше чудовища: «Еще страшней, еще чуднее…» (строчка, по замечанию Набокова, так напоминающая строку из «Приключений Алисы в Стране чудес», которые первоначально были задуманы, как мы это упоминали, как путешествие под землей). Пушкинское «страшно поневоле» и «ещё страшней, еще чуднее» точно передают суть традиционных интуиций страха, неразрывно связанных с мифологическим мировосприятием последовательного преодоления порогов мифической дороги.