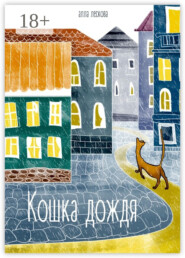По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Что-нибудь такое
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наиграться, надышаться, наваляться, отряхнуться, постучать ботинками на пороге избушки, войти, а там Эрик, а на самом деле Эркин, уже шурпу варит в казане, помешивает. Они приходят ко мне готовить, есть и хохотать. А днем работают, строят дорогие дома.
А пока готовит Эркин шурпу, я гляжу в замерзшее окошко, выдышав в нем кружок для глаза. Потом ложусь под три одеяла, пар от шурпы увеличивает медленно мой оттаявший кружок на оконном стекле, а я за этим наблюдаю и вдыхаю запахи эти рядом… И снег идет, идет, снег.
Скажешь – снег на душе, и совсем не то, да? Ужасен этот снег на душе. Разве ж душа для снега? Она для тепла, для неги, для горячих ее приливов…
Снег на душе – это плохо. Поэтому лежишь в теплых одеялах, смотришь на снег за окном, на сосны совсем белые, на небо белое, на шурпу красную в казане, на Эркина, который скоро мне нальет эту горячую шурпу и скажет – вечером плов будет. Любишь?
Собаку вдруг черную притащил другой земляк, Икрам. Пусть греица, говорит. Греица!
Замерз собака, говорит. Я кивнула.
Кости потом дадим тебе, разговаривает он с черной собакой. Она приподнялась, повела ноздрями, предвкушая, легла потом тихо, смотрит печально. А как еще собаки могут смотреть.
Валера на диване
Бомж Валера где-то перезимовал, и вот снова мы встретились.
Около домика с мусорными баками стоял диван, кем-то выкинутый, а на нем вальяжно сидел Валера, вальяжно курил. Бородатый стал. Увидел меня и заговорил:
– Вы без сумок сегодня… Похудели… Пальто большое стало, рукава подшить надо, длиннее рук… Тут вчера была курточка на вас, уже нет, как вороны налетают, не уследить… Мафия. Но ничего, не отчаивайтесь, я вам найду красивую, тут много хороших вещей, люди выкидывают… Ваш цвет, вам понравится.
И лег. Головой на одну боковину дивана, ногами длинными в хороших джинсах с помойки – на другую. Лежит, в небо смотрит. Что-то высматривает.
– Ну, до свиданья, Валера, борода вам идет.
– Правда?! – вскочил Валера радостно с дивана. И кричит мне вслед: – Вы спиной похудели сильно, пальто пузырится там, я вам найду поменьше, тут новые вещи выкидывают… Буду сторожить, скоро тепло…
Скоро? Не знаете?
Милая
По коридору больницы медленно шел худощавый мужчина лет семидесяти или больше.
Он останавливал каждую женщину в белом халате и спрашивал:
– Милая, а скажите… Доктор был тут у вас… С армянской фамилией.
– Саркисян? – уточняли милые.
– Да-да. Саркисян. Он мне очень нужен.
– А он в отпуске, будет через две недели примерно. Или полторы, – отвечали женщины.
Но мужчина не успокаивался и ждал еще одно, шестое например, мнение, про доктора Саркисяна.
– Милая, – он прикасался слегка к руке следующей сестрички или врача, – доктор с армянской фамилией был у вас, очень мне нужен…
– Саркисян? Он в отпуске, будет дней через десять или больше, – отвечали женщины.
Но мужчину это не успокаивало и не убеждало.
Он сидел около меня и внимательно высматривал еще какой-нибудь белый женский халат в коридоре. И тут же вставал, дотрагивался до белого рукава и говорил:
– Милая, а скажите, доктор с армянской фамилией, Саркисян…
– В отпуске.
– Через две недели точно вернется?
– Должен.
– Спасибо, милая.
Но не уходил. Надеялся на чудо.
Что вдруг возьмет этот доктор с армянской фамилией и сорвется из своего отпуска и появится в этом коридоре, на ходу надевая белый халат. Ну, бывают же чудеса! Вдруг отпуск не понравился. Или дожди там сутками. Или с женой поругался. Или на работу срочно вызвали.
Посижу, думал этот мужчина, наверное. А вдруг? И сидел.
– Милая, а вот доктор тут у вас работал…
Я еще раз пять услышала это и вдруг подумала, что совсем не нужен ему этот доктор Саркисян. А нужно ему кому-то сказать «милая». И дотронуться слегка до женского рукава. Давно не говорил и давно не дотрагивался. Быть может…
Наполовину корейский боинг
Сегодня я встречалась с одной женщиной из Ташкента. Она привезла на встречу узбекское блюдо с родным узором – и у меня заныло. Заныло так, как давно не ныло… ТАК – очень давно не было. Не знаю, что это за орган такой, который умеет ТАК.
Еще привезла и подарила книжку своих любительских, «для себя», стихов.
Мы с ней разговаривали, она рассказывала про Ташкент, вспоминала подруг молодости.
Минна Гиндина, была у меня такая подруга, сказала Римма, которая пишет стихи для себя. Мама Минны все детство, отрочество и юность внушала дочери: «Брак дело непростое в любом случае. Поэтому надо иметь хороший фундамент. Ты должна полюбить только еврея. Потому что и так супружество не рай, а еще не со своим…»
Послушная Минночка кивала еврейской головкой и говорила: «Конечно, мама. Ты права, мамочка. Зачем мне чужой, мам. И так это замужество не сахар. Вон ты с папой все время ругаешься, вернее, ты ругаешься, а он молчит. А если не еврей… Лучше и замуж тогда не надо».
И вышла замуж за южного корейца.
Мама схватилась за сердце. Минна обняла ее и сказала: «Он такой кореец, мамочка, что еще лучше, чем евреец». И уехала с корейцем в США. Там они почти не ругаются.
Папа Минны наконец оторвался от своих книг и сказал вторую за жизнь фразу: «Наша Минночка оказалась миной замедленного действия. Взорвала все надежды и счастлива. С кем?! С корейцем!!! Ты внуков представляешь наших?»
Внуки получились неземной красоты. Но мама Минны все ждет, что кто-нибудь уведет этот корейский боинг у Минны, собьет его с пути, и все на свои места вернется. Так и ждут, уже внуки и почти правнуки у них, но ждут.
Сидят в своем теплом Ташкенте и ждут. Совсем уже старенькие.
Как скажете
Бомж Валера сегодня, когда птицы не умолкают, коты орут так, мартовские, что сердце рвут, а чем поможешь… Валера сидел сегодня на кем-то выброшенном детском четырехколесном велосипеде и курил, грустно глядя в одну точку.
А пока готовит Эркин шурпу, я гляжу в замерзшее окошко, выдышав в нем кружок для глаза. Потом ложусь под три одеяла, пар от шурпы увеличивает медленно мой оттаявший кружок на оконном стекле, а я за этим наблюдаю и вдыхаю запахи эти рядом… И снег идет, идет, снег.
Скажешь – снег на душе, и совсем не то, да? Ужасен этот снег на душе. Разве ж душа для снега? Она для тепла, для неги, для горячих ее приливов…
Снег на душе – это плохо. Поэтому лежишь в теплых одеялах, смотришь на снег за окном, на сосны совсем белые, на небо белое, на шурпу красную в казане, на Эркина, который скоро мне нальет эту горячую шурпу и скажет – вечером плов будет. Любишь?
Собаку вдруг черную притащил другой земляк, Икрам. Пусть греица, говорит. Греица!
Замерз собака, говорит. Я кивнула.
Кости потом дадим тебе, разговаривает он с черной собакой. Она приподнялась, повела ноздрями, предвкушая, легла потом тихо, смотрит печально. А как еще собаки могут смотреть.
Валера на диване
Бомж Валера где-то перезимовал, и вот снова мы встретились.
Около домика с мусорными баками стоял диван, кем-то выкинутый, а на нем вальяжно сидел Валера, вальяжно курил. Бородатый стал. Увидел меня и заговорил:
– Вы без сумок сегодня… Похудели… Пальто большое стало, рукава подшить надо, длиннее рук… Тут вчера была курточка на вас, уже нет, как вороны налетают, не уследить… Мафия. Но ничего, не отчаивайтесь, я вам найду красивую, тут много хороших вещей, люди выкидывают… Ваш цвет, вам понравится.
И лег. Головой на одну боковину дивана, ногами длинными в хороших джинсах с помойки – на другую. Лежит, в небо смотрит. Что-то высматривает.
– Ну, до свиданья, Валера, борода вам идет.
– Правда?! – вскочил Валера радостно с дивана. И кричит мне вслед: – Вы спиной похудели сильно, пальто пузырится там, я вам найду поменьше, тут новые вещи выкидывают… Буду сторожить, скоро тепло…
Скоро? Не знаете?
Милая
По коридору больницы медленно шел худощавый мужчина лет семидесяти или больше.
Он останавливал каждую женщину в белом халате и спрашивал:
– Милая, а скажите… Доктор был тут у вас… С армянской фамилией.
– Саркисян? – уточняли милые.
– Да-да. Саркисян. Он мне очень нужен.
– А он в отпуске, будет через две недели примерно. Или полторы, – отвечали женщины.
Но мужчина не успокаивался и ждал еще одно, шестое например, мнение, про доктора Саркисяна.
– Милая, – он прикасался слегка к руке следующей сестрички или врача, – доктор с армянской фамилией был у вас, очень мне нужен…
– Саркисян? Он в отпуске, будет дней через десять или больше, – отвечали женщины.
Но мужчину это не успокаивало и не убеждало.
Он сидел около меня и внимательно высматривал еще какой-нибудь белый женский халат в коридоре. И тут же вставал, дотрагивался до белого рукава и говорил:
– Милая, а скажите, доктор с армянской фамилией, Саркисян…
– В отпуске.
– Через две недели точно вернется?
– Должен.
– Спасибо, милая.
Но не уходил. Надеялся на чудо.
Что вдруг возьмет этот доктор с армянской фамилией и сорвется из своего отпуска и появится в этом коридоре, на ходу надевая белый халат. Ну, бывают же чудеса! Вдруг отпуск не понравился. Или дожди там сутками. Или с женой поругался. Или на работу срочно вызвали.
Посижу, думал этот мужчина, наверное. А вдруг? И сидел.
– Милая, а вот доктор тут у вас работал…
Я еще раз пять услышала это и вдруг подумала, что совсем не нужен ему этот доктор Саркисян. А нужно ему кому-то сказать «милая». И дотронуться слегка до женского рукава. Давно не говорил и давно не дотрагивался. Быть может…
Наполовину корейский боинг
Сегодня я встречалась с одной женщиной из Ташкента. Она привезла на встречу узбекское блюдо с родным узором – и у меня заныло. Заныло так, как давно не ныло… ТАК – очень давно не было. Не знаю, что это за орган такой, который умеет ТАК.
Еще привезла и подарила книжку своих любительских, «для себя», стихов.
Мы с ней разговаривали, она рассказывала про Ташкент, вспоминала подруг молодости.
Минна Гиндина, была у меня такая подруга, сказала Римма, которая пишет стихи для себя. Мама Минны все детство, отрочество и юность внушала дочери: «Брак дело непростое в любом случае. Поэтому надо иметь хороший фундамент. Ты должна полюбить только еврея. Потому что и так супружество не рай, а еще не со своим…»
Послушная Минночка кивала еврейской головкой и говорила: «Конечно, мама. Ты права, мамочка. Зачем мне чужой, мам. И так это замужество не сахар. Вон ты с папой все время ругаешься, вернее, ты ругаешься, а он молчит. А если не еврей… Лучше и замуж тогда не надо».
И вышла замуж за южного корейца.
Мама схватилась за сердце. Минна обняла ее и сказала: «Он такой кореец, мамочка, что еще лучше, чем евреец». И уехала с корейцем в США. Там они почти не ругаются.
Папа Минны наконец оторвался от своих книг и сказал вторую за жизнь фразу: «Наша Минночка оказалась миной замедленного действия. Взорвала все надежды и счастлива. С кем?! С корейцем!!! Ты внуков представляешь наших?»
Внуки получились неземной красоты. Но мама Минны все ждет, что кто-нибудь уведет этот корейский боинг у Минны, собьет его с пути, и все на свои места вернется. Так и ждут, уже внуки и почти правнуки у них, но ждут.
Сидят в своем теплом Ташкенте и ждут. Совсем уже старенькие.
Как скажете
Бомж Валера сегодня, когда птицы не умолкают, коты орут так, мартовские, что сердце рвут, а чем поможешь… Валера сидел сегодня на кем-то выброшенном детском четырехколесном велосипеде и курил, грустно глядя в одну точку.