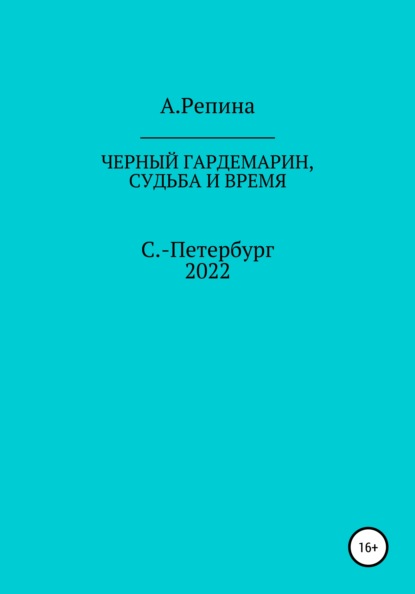По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черный гардемарин, судьба и время
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Учитель тем временем возвращается к купцам Савиным, которые «наше все» в Осташковском уезде. Разбогатевшей на войне с Наполеоном семье Савиных принадлежат сапожное производство, лесопильные и кожевенные заводы, общественный банк, ремесленное училище, очаги сельскохозяйственной культуры, сиротский приют, богадельня. Точно знаю: с февраля по сентябрь 1918-го года братья Савины находились под арестом в тверской чрезвычайке, однако не стану забегать вперед. В моем повествовании сейчас 1906-й год; мы на пристани товарищества Савиных, чьи пароходы курсируют в навигацию по селениям селигерских берегов. Нам как раз в знаменитую Кравотынь, папино село.
Регулярные отправления на Кравотынь по вторникам, в почтовый день. В прочее время добраться можно «по требованию»: пароходы из Осташкова в Нилов монастырь, на остров Столобню, ходят два раза в день, к поздней обедне и к вечерне. После Столобни они успевают завернуть и на Кравотынский плес.
Подваливает пароход, мы поднимаемся на палубу; солнце пригревает, мелкая волна бликует, поистине сияющее озеро, Селге-йарви, как именуют Селигер аборигены чухонцы. Прекрасным видится то летнее осташковское утро из заснеженной финляндской санатории!
Светает. Пред окнами сосны с хлопьями плотного снега на ветках. День обещает быть сереньким – прекрасно, вылезать из номера в такую погоду не тянет, что и требуется для занятий сочинительством.
Село Кравотынь
Продолжаю первые впечатления о тверской. 1906-й год, мы на Селигере, на савинском пароходе. Проплыли половину пути. Богомолки и школьники высажены в Ниловой пустыни, на каменной пристани острова Столобня, пред громадой Нилова монастыря.
(Колоссальная достопримечательность; о ее масштабах сама по себе говорит такая подробность: главная церковь монастыря первоначально проектировалась архитектором Шарлеманем на место Исаакиевского собора в Петербурге. Однако постройка Исаакия досталась другому французу, Монферрану. И, таким образом, не удостоившись берегов Невы, шарлеманевское сооружение грандиозных размеров украсило собою Осташковский уезд, став еще одним предметом фанаберии осташей).
Пароход отваливает от Столобни, поворачивает на Кравотынский плес. Показалась изящная колокольня Введенской церкви; это уже наше село, Кравотынь.
Идти от пристани боязно: в попутчиках у нас стая гусей. Бегут рядом с гоготом, хлопают крыльями, гусаки шипят. Папа успокаивает: не бойтесь, в Кравотыни не разводят драчливых бойцовых пород – здесь самые обычные мясные гуси. Гусиные стаи в каждой слободе!
Происхождение кравотынского гусиного царства – особая история. Дело в том, что почвы вокруг Селигера песчаные, скудные; на них крестьянам земледелием не прокормиться. Там, где земли получше – угодья Нилова монастыря: пасутся монастырские коровы, луга убираемы богомольцами. На Селигере почти все вокруг «достояние преподобного Нила», то есть монастыря. Сами воды Селигера принадлежат «Нилу» (из-за чего уездный Осташков ведет давнюю безуспешную тяжбу с монастырем о рыбных ловлях на Селигере). Лес с охотничьими угодьями тоже в большинстве своем «Нилов», в нем промысел запрещен.
Главный доход селян – от водоплавающей птицы и овец, благо на их выпасы на воде и на кочках неудобий не распространяется длань Ниловой пустыни. Местные кормильцы, гуси и овцы, в изобилии вырезаны на иконостасе Введенской церкви. Веселый иконостас; красивое село. Оживший сказочный городок. Погост вокруг Введенской церкви, обнесенный кирпичной стеной с башенками – для нас, детей, крепость, а колокольня таинственный замок. От крепости по холмам спускаются мощеные булыжником улочки, ведут в слободы. Дома разноцветные; в большинстве своем каменные, с мезонинами; в палисадниках деревянные скамьи с узорами; у скамей можжевельники, шиповники, сирени; в окнах олеандры и герани. Идиллическая картинка.
Наш дом деревянный. За домом сад, в нем беседка, качели; брусья и турник для гимнастических упражнений. Папе уже под шестьдесят, но он по-прежнему в отличной физической форме и для себя не намерен расставаться с тем званием гимнаста, коим был удостоен в Гвардейском экипаже в 1873 году.
Приехав в село, я сразу подружился с двумя соседскими мальчиками: дачником из Москвы Василием Верзиным и односельчанином Алексеем Федоровым. Такова была наша первая, а затем и неизменная, летняя компания. Вскоре к ней присоединилась наша сверстница, моя племянница Дуня.
Детские игры в 6-м году: играем в войну с желтой расой.
«Сдавайся, япошка, чужеземная гадина! Не пить тебе нашей православной кровушки!» – наступает на меня Ленька Федоров, русский матрос. «За веру, царя и отечество, вперед!» – командует Васька Верзин, русский адмирал. Я, Поль Репин, на сей момент неприятель, японский самурай, издаю кровожадные вопли.
«Дети, будьте друг к дружке добрее», – выглядывает в окошко мама.
Почти весь день мы проводим в саду. У нас бруствер, редут, шалаши, арсенал нашего детского оружия. Племянница Дуня на нескольких женских амплуа. Она и самоотверженная сестра военного времени, и безутешная мать убитого героя матроса, и злобная японская императрица. Сестрица Татьяна – та лепит русскому воинству пирожки из песку.
Если мы не в саду – значит пристали к Ленькиному дядьке, затащили его с улицы в палисадник: «Федоров, голубчик, расскажи!». Мы все охотники слушать матросские сказки.
Матросские сказки
Федоров, минный машинист, нынче в селе в отпуске. С ним в японскую войну случилась удивительная история: его имя попало в список нижних чинов, погибших в 1904-м году на минном транспорте «Енисей». Так имя Федорова и вырезали на доске в церкви: убитым при Порт-Артуре.
В Кравотыни церковь – наглядная история морских сражений России, поскольку крестьян селигерских селений издавна призывают на службу во флот. И для кого-то, понятно, могилой становится море.
Так вот, уже и доску в церкви повесили, а Ленькин дядька объявился живым – нашелся у японцев в плену. На «Енисее», как установили позже, погиб другой тверской Федоров, и даже не из нашего уезда.
Мы к нему: «Федоров, расскажи о сражениях!».
Он: «А что тут, ребята, рассказывать? Колошматила, братцы, нас японская раса, вот и весь сказ!».
«Про плен расскажи!».
«Ну, это другой разговор!» – и начинаются презабавные истории.
Федоров степенно заводит:
«Разбил нам, значит, Красный Крест лагерь в Нагасаках. Нагасаки эти вроде нашего Осташкова, уездный город. Японцы забавные, вроде питерских китайцев: кивают и улыбаются, по-русски не понимают. Избы у них худые, не то что у нас на Селигере: вместо стен, не поверите, фанерки на жердях. В Нагасаках белокаменных изб не ставят. Выбрали меня, значит, товарищи в лагере артельщиком – сами, братцы, знаете, что такое артельщик. Ходил я в лавку за провизией, в остатнее время резал свистульки, игрушки, доски с гусями. У меня, чтоб вы знали, еще дед был знатный резчик, он в самом Ниловом алтарь резал».
(Длинноту о местных резчиках опускаю).
«Жарища у них в Нагасаках не приведи господи, – возвращается на японскую почву матрос Федоров, – климат тяжелый, не то что у нас на Селигере. Начали наши ребята животами маяться, а порошки, что дает Красный Крест, не помогают. Помирать начали. Встают православные кресты на русском кладбище, уже боле ста. Что делать?».
И Федоров рассказывает, как дал ему целебное снадобье хозяин лавки, в которую он ходил за провизией. Некую квасную медузу, или «чайный гриб», который якобы лечит даже холеру. Снадобье лавочника матросам помогло, хоть поначалу наши братцы им брезговали (потом как-нибудь уточню научное название этой медузы).
«Война не война, а хорошо к нам желтая раса относилась, жалела. На пасху каждому делали гостинцы. В театр нас водили, на исторические пьесы. Занятно: мужики в бабьих платьях завроде наших попов и кричат. Ей-богу, тоскливо было с японской нацией расставаться. Я хозяину лавки доски с резными гусями дарил, девкам его свистульки; такие вот чудеса», – итожит Федоров.
«А девки там как, в японском Осташкове?» – подтрунивает папа, заранее зная ответ.
«Девки, нет, – морщится Федоров, – девки в Нагасаках корявые. Вы, господа, не поверите: у всех берца кривы и семенят вперевалку».
«Врешь!» – задирается племянница Дуня.
«Не вру! Все как одна колченоги», – тут общий смех. Чего только не наплетет наша кравотынская публика!
Отбывая из отпуска, Ленькин дядька приносит гостинец – склянку с «чайным грибом». Медуза поселяется на окне в тенечке и пухнет от сладкого чая – подарок от чистого матросского сердца.
Мадам Верзина
Наш домик в 6-м году тесен и шумен. Тетки, дети, племянники, особенно новорожденный крикун Леша, братик Дуни! Alles in allem, полный переполох. Моей сестре Танечке и племяннице Дунечке устраивают ночлег в амбаре, меня определяют спать в избу к соседям Верзиным – нам, детям, это приключение.
Мадам Верзина, мама моего друга Василия, энергичная просветительница, деятельница народного образования. Она составляет русскую грамматику для детей местных крестьян карел, она по подписке устроила на плацу перед Введенским погостом площадку для игр крестьянским детям, она патриотка Кравотыни. Ее пращуры приложили немалые труды к украшению отеческого села: один из Верзиных резал алтарь Введенской церкви. По вторникам, в почтовый день, ей писем более всех – она в обширной переписке с умами отечества, со сподвижницами и с учреждениями.
Понятно, из-за общественных хлопот васиной маме которое лето не с руки разобрать скопившиеся бумаги личного свойства. В частности, оставшиеся от родни: от покойного профессора богословия Василия Болотова, настоятеля петербургской духовной академии.
Богослов Болотов
Родня Васи Верзина, Василий Васильевич Болотов, родился и вырос в Кравотыни. Отец его, дьячок Введенской церкви, скончался еще до рождения сына: утонул, загоняя гусей по молодому льду. Сам профессор прожил короткую жизнь: умер в девятисотом году, едва перевалив сорокалетие. Говорили, он был очень привязан к отеческому селу: каждый год проводил здесь летние каникулы в доме своей матери, что стоит как раз напротив нашего.
Наш папа хорошо помнит это семейство. Матушка Болотова, Марья Ивановна, имела в селе репутацию старухи с замкнутым и мрачным характером; была нелюдима, с дачниками не зналась, считая их отпетыми бездельниками. Сама была в трудах до последнего издыхания: обшивала деревенских баб; за швейной машинкой и умерла.
Сына ее тоже запомнили человеком тяжелым и необщительным: в село на лето он приезжал работать над своими бумагами и, кажется, работал круглыми сутками без еды и сна. Мадам Верзина так и говорила о его преждевременной кончине: изнурил себя трудами.
По смерти Болотова в 1900-м году его деревенский архив был забран на разбор в дом Верзиных.
Мадам Верзина, обнаружившая в бумагах Болотова черновики уже опубликованных известнейших трудов профессора о гонениях на христиан при Нероне, об армянском церковном годе, о внешнем состоянии константинопольской церкви под игом турецким, а также проект соединения абиссин с русской православной церковью, а также многочисленные листы с расшифровками древних абиссинских рукописей, развела, по ее собственным словам, руками и оставила разбор «всего этого коптского богословия» до лучших времен.
Рукописи были сложены в один сундук и препровождены на чердак. Нам, детям, совать свой нос в этот сундук было запрещено, дабы случайно не запустить в него мышей либо не перепутать бумаги меж собой.
Однако товарищ наших детских игр Ленька Федоров, о котором я еще не раз упомяну, отличался в большей степени жгучим любопытством, чем примерным послушанием.
Ленька был круглый сирота, жил в селе при тетке. Наш папа называл его «уникум»: Ленька сыплет десятью вопросами в минуту, на все темы; он жадно читает достающиеся ему от дачников книжки; внешне он худенький мальчик в обносках: чьи-то гимназические брюки, вышедшая из употребления кадетская рубаха, флотская фуражка; летом в любую погоду он босиком. Мадам Верзина исподволь занималась его развитием, направляя круг чтения – от книжек из популярной «Библиотеки для дач, пароходов и железных дорог» в сторону умственной литературы.