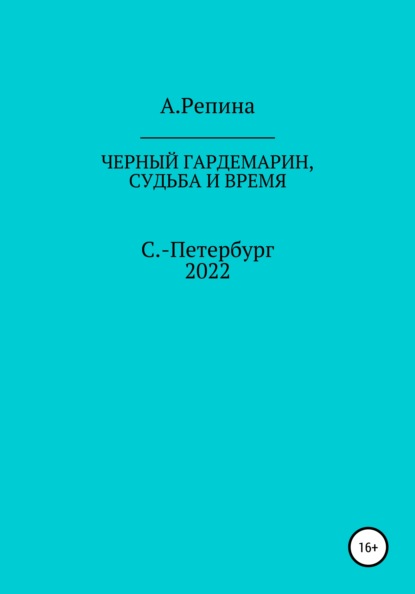По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черный гардемарин, судьба и время
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Черный гардемарин, судьба и время
Алла Валерьевна Репина
Эта приключенческая книга основана на исторических документах и рукописях Павла Репина – белоэмигранта, офицера Русской эскадры Врангеля в Бизерте. Действие охватывает 1906–1922 гг.: период учебы героя в Первом кадетском корпусе и в Морском корпусе; участие гардемарин в контрреволюционных заговорах на Мурмане и в Верхневолжье; эвакуацию из Крыма в Константинополь и переход Русской эскадры в Африку; эмиграцию офицеров эскадры в Чехословакию. Значительная – тверская – часть повествования посвящена отеческому селу Кравотынь на Селигере, нравам Осташковского уезда и событиям вокруг Нило-Столобенского монастыря. Автор книги: петербургский журналист, родственница Павла Репина, от имени которого она и ведет повествование. Издание 2-е, переработанное и дополненное.
Алла Репина
Черный гардемарин, судьба и время
Часть I
В гостеприимной Финляндии
Братцы перебежчики
«Репин, Павел Васильевич?» – «Иван Михайлович?!».
Мы сдержанно поприветствовали друг друга. Подумать только, лейтенант Иван Лукин! И вот так встреча: в полусотне километров на север от Петрограда, в финских Териоках. Здесь Лукин, оказывается, участвует в судьбе русских офицеров, заведуя передаточным пунктом.
Какая из нас, прибывших, смесь одежд и лиц! В бушлатах, валенках, в форме, составленной вперемешку из предметов разного обмундирования, от флотского до пехотного… Вид офицеров таков, что мог бы служить иллюстрацией к поэме Пушкина «Братья разбойники». Многие драпанули из Совдепии без вещей, без документов, без средств к существованию. Нас, русских перебежчиков, приняла гостеприимная Финляндия.
Именно так. На собрании перебежчиков лейтенант Лукин произнес энергичную речь о том, что нас, обездоленных русских военных, бежавших от красного террора из Совдепии и прибывших в гостеприимную Финляндию, временно разместят в териокских санаториях, до наступления на Петроград.
Прислуги в общежитиях нет, кроме истопников, они же на амплуа кухонных работников. Все будем заняты уходом за помещениями, исполняя обязанности дворников и сторожей. Возможно, вскоре среди нас будут налажены работы по насущному сапожному делу и начнется подготовка к огородничеству.
В отношении довольствия следующий порядок: три раза в день чай (утренний может быть заменен кофе). Хлеба 1 фунт, мяса разного 1/2 фунта, крупы 1/4 фунта, сахару 1/30 фунта, чаю 1/90 фунта, масла на еду и приготовления 1/30 фунта, картофеля 1 и 1/4 фунта, молока 1/2 стакана, зелени и приварка на 1 марку. Довольствие на 15 марок в день и не дозволяется взамен пищевого получать денежное.
Из речи Лукина: «Если пребывание кого-либо из принятых в общежития будет признано нежелательным, то это лицо без объяснения ему причин немедленно удаляется».
По изложении общежицких инструкций Лукин перешел на речь простыми словами: «Братцы, не бросайте тень вообще на всяких русских. Понятно, где мужская компания, там выпивка, карты, прочая фривольность. Займите себя делом: снег там грести, вспомоществовать семейным беженцам. Олл райт?».
All right. Понятно. Кормить будут неважно, но с голоду не сдохнешь.
Под личную ответственность лейтенанта Лукина (де, Репин действительно выпускник Морского корпуса, гардемарин и к тому же участник контрреволюционного заговора моряков) из передаточного пункта в Териоках меня направили в одно из общежитий для перебежчиков, находящихся под наблюдением князя Александра Николаевича Оболенского, бывшего столичного градоначальника. Выглядит важно.
Санатория в Халиле
Итак, 17 февраля 1919-го года я сел в поезд в Териоках; после Райволы и Мустамяк вышел на станции Усикирко. Недалеко от Усикирко деревня Халила – симпатичная горстка улиц. Избы выкрашены красной питкярантской краской, учреждения казенной желтой, на снегу смотрится нарядно. Вывески в прежней орфографии. Объявления в витринах те же, что в Териоках: «Скупаем ковры из дворцов, золото, платину, жемчуг». Понятно. И здесь комиссионные конторы, агенты, а в лавках предметы из дворцов и музеев; русские загоняют кто что может.
Санатория – за деревней на берегу озера: внушительный 3-этажный корпус с башней, церковь, почта, флигели, просторный парк; говорят, прежде здесь был модный курорт. Теперь, кроме офицеров, в нем разместили и беженцев. Хорошеньких женщин не приметил; лишь у одной-двух славные фигурки, остальные бабы хлам. А я уже так соскучился по женскому обществу!
Скажу, тоска зеленая и смертная скука: оказаться в феврале месяце в уединенной санатории среди лесов Финляндии. Мне 20 лет. Я абсолютно здоров и вот сижу здесь: оторванный от дома, без намека на больного, а вокруг снег да сосны.
За стеной разнокалиберными голосами, вразброд, несколько глоток тянут: «Молодая гимназистка сына родила, не вспоила, не вскормила, в речку бро-осила». Это русские офицеры коротают, как и я, свое время. Комики мне тоже. Собрались сюда в надежде присоединиться к «контрреволюции», но, пока контрреволюционная деятельность нам не светит, поддерживают боевой дух пением. То пели «Как ныне сбирался», с хвастливым присвистом и громко крича припев: «Так за Царя, за Русь, за веру мы грянем громкое ура, ура, ура!». Потом затянули «Боже, Царя храни»…
Мне дали отдельный номер в этом временном офицерском общежитии. Номер чистенький. Тепло, уютно и не голодно. Приведя себя в божеский вид, сижу и чирикаю вступление в дневник:
Я начинаю этот первый лист дневника только потому, что оказался по воле судьбы в уединенной санатории среди лесов Финляндии, где царствует зеленая скука и, если ничем не заняться, то можно медленно, но верно превратиться в Обломова. Быть может, удастся мне впоследствии прочитать эти строки и перенестись в область воспоминаний, а может – убьют, тогда другие их прочтут и узнают о «Похождениях одного гарда»…
Вступление, перечитав, перечеркнул: болтливая банальщина!
По прибытии в расположение заполнял бумаги у канцеляриста (у штабных всегда кипит работа): «Я, Репин Павел Васильевич, родился 25 числа мая 1898 года в Петербурге. Метрическое свидетельство о рождении и крещении за номером 3936 выдано окружным судом С.-Петербурга. Вероисповедание православное. Сословное происхождение: отец имеет личное дворянство. Указ об отставке отца за номером 6605. Последнее звание отца до декрета об уничтожении сословий и гражданских чинов: отставной подполковник по Адмиралтейству»; и т.д., и т.п. В 1909 году был зачислен в Первый кадетский корпус, выпущен в 1916-м вице-унтер-офицером; в том же году поступил в Морской кадетский корпус, окончил в марте 1918 года гардемарином ускоренного выпуска в связи с закрытием корпуса.
Затем параграф «Участие в контрреволюции».
Третья, после пограничной стражи и после передаточного пункта в Териоках, проверка личности. У финнов зоологический страх перед большевицкими агентами и шпионами. Раз за разом переспрашивают мелкие подробности. К примеру, ротный номер в корпусе. Мой в Морском корпусе был 198. Но как они намерены его проверять?
Заполнив бумаги, дал работу канцеляристам.
Из развлечений в Халиле бильярд и кинематограф. После обеда показывали старые американские фильмы: «Военные действия в Черногории, съемки с натуры» и «Эксцентрики танцоры негры гг.Смит и Вильсон».
Смотрел и вспоминал, как пошли на эти фильмы в Петрограде в 1915-м году, в «Монтрэ» на Садовой угол Апраксина переулка. Как давно это было! В тот день поднялась обычная для марта вьюга; снежные заряды били в лицо. Мы шли по Невскому; на фасаде каланчи городской думы с трудом водружали флаги; один из флагов сорвался, древко зашибло кого-то из залепленных снегом зевак. Публика была возбуждена; пели «Боже, Царя храни»; учащаяся молодежь окружала трамваи и кричала ура. Нам дали отпуск от занятий: в тот день пришло известие о взятии Перемышля. Теперь мне скажут «Перемышль», а у меня о колоссальном событии Великой войны запечатлелось несерьезное: зашибленный зевака, вьюга и танцоры негры.
Скажут «контрреволюция», а у меня перед глазами, как теплым сентябрем 18-го года трясся в Твери на трамвае на Морозовскую Фабрику: принимать волжский буксир «Князь Михаил Ярославич». Смотрел в пыльное окно и видел себя уже чуть ли не героем контрреволюции, в своей неизменной голландке, но с белыми погончиками, и бряцающим палашом. Счастливый от грез о дебюте в роли командира задремал и – едва не проехал остановку.
Это подпараграф «Место участия в контрреволюции»: Тверская губерния.
«Архив русской революции»
Публика в санатории подобралась занятная. За третьим, вечерним (пустым) чаем к нашей офицерской компании присоседился разговорчивый субъект из петроградских беженцев. Мне подсказали: бывший член государственной думы (от кадетов); увещевает всех составлять житейские записки о событиях последних лет, очевидцами которых они стали. У него идея создать из них некий «архив русской революции», в назидание потомкам.
Говорит примерно так: мол, коль ранее пасхи наступления на Петроград все равно не станется, отчего бы в этот период затишья на театре брани господам офицерам не посвятить себя долгу перед потомками иным образом, чем с оружием в руках, а именно взявшись за перо. Де, мы все, соучастники, обязаны записать ход революции и ей предшествующее, начиная едва ли не с событий 1905 года, если кто их застал. Сообща отобразить дикость и варварство русской революции. Так, чтобы содрогнулись от ужаса Старая Европа и Новый Свет. Alles in allem, изложить историю деяний греков и варваров со страстью Геродота. Так, «чтобы ни события, ни дела не изгладились из памяти людей».
Витиеватая речь думца была перебита другим из беженцев:
«Бросьте вы эту затею, господа. Лично я глубоко убежден, через пятьдесят, ну, не пятьдесят, а скажем сто лет, где-то так в 2019 году, все наши пертурбации будут столь же малопонятны человеку будущего, как нам сейчас война Алой и Белой розы! Спросите любого в этой зале: Тюдоры, Спенсеры, в чем разница? Никто в момент не скажет. А через сто лет не вспомнят ни об одном из нас. Керенский, Троцкий, Ленин, большевики, кадеты, державы альянса – все сольется в один ряд исторических событий и имен глубокой древности. Держу пари, пройдет сто лет – и тю-тю, о нас забудут».
«Возражаю! – парировал думец. – Через сто лет мир будет с благодарностью вспоминать нас за преподанный ему урок».
Оставив спорщиков в столовой, мы с офицерами направились в бильярдную, но и там обнаружили дебаты. Среди игроков солировала пожилая дама. Старуха громко ругала советскую власть и сетовала на свои имущественные потери от революции:
«У меня был лучший очаг сельскохозяйственной культуры во всем уезде. В имении было до двадцати человек слуг, и жили они у меня припеваючи. Теперь эти канальи спят на моих подушках и в моих кроватях, бабы-солдатки растащили ковры и сервизы по избам, я пишу управляющему письма, а он, каналья, на них не отвечает».
«Мадам, но как управляющий на них ответит, если переписка с заграницей запрещена?» – «Глупости!»; и пошла-поехала костерить ту советскую власть, что больно долго задержалась…
Слава богу, думал я про себя, мои чувства ко всему произошедшему с нами за последние два года никак не замешаны на материальных потерях. У меня в моей сознательной жизни никогда ничего и не было, кроме формы обмундирования, смены белья и кадетского сундучка. Наша семья жила самой простой, трудовой жизнью.
Наша семья Репиных
В годы учения в Первом кадетском корпусе – рассаднике великих людей, привилегированном военном учебном заведении Империи, в котором учились августейшие кадеты – моей привилегией перед товарищами было происхождение: из нижних чинов. Наш отделенный офицер-воспитатель Беленков (кличка Бельмо), наказывая некого титулованного шалуна, ставил меня в пример: «Смотрите, господин кадет, вот старательный Репин, он вышел из бедной, живущей своими трудами семьи. Его отец выслужился из нижних чинов, получив личное дворянство, и, будучи уже в весьма преклонном возрасте, личным трудом содержит довольно большую семью. Вы же, господин кадет, не зная трудовой атмосферы, растете в роскоши, баловстве и праздности. Результаты плачевны…».
Я смущался этим акцентом на моем происхождении. Теперь его поддержу. Оно козырь против демагогии большевиков о вопиющем неравенстве возможностей, якобы бытовавшем в «царской» России.
Повторю: наша семья жила самой простой, трудовой жизнью. Из первых ярких впечатлений детства: «Едем на огород!». Папа в это время служил в Гвардейском экипаже заведывающим огородами, обозом и помощником заведывающего мундирными материалами. А «огородом» мы называли участок земли при Корпусном шоссе в Петербурге, принадлежащий Гвардейскому экипажу. По всей вероятности там должны были разводить овощи для нужд экипажа, но во время моего раннего детства там были только луга, с которых собирали сено для экипажных лошадей.
У дороги стоял небольшой деревянный домик с красной кровельной крышей – сторожка для матроса-сторожа, и большой сарай для сена. В сторожке, которую мы называли «зимним помещением», была лишь комната с русской печью. Перед этим помещением были сени с дверями на двор и в уборную. Двери на двор вели на маленькое крылечко с пятью ступеньками. На нем уже рано утром сидела наша мама, пила кофе со сторожем-матросом, окруженная курами и цыплятами. (Мама всегда была большой охотницей слушать матросские сказки).
За сторожкой было «матросское помещение» из досок: большая зала с нарами, где летом спали приехавшие на сенокос матросы. Там же была и «летняя кухня» с большим котлом для варки пищи. На другой стороне двора при сарае для сена было пристроено так называемое «летнее помещение». Там из крашеных досок были построены две небольших комнаты «для папы» и «для мамы», была стеклянная веранда, в которой перегородками отделили комнаты для детей.
Из летнего помещения чуть позднее, чем спозаранку, средним ходом подгребал к матросской сторожке отец и шутливо прерывал слушания о плаваниях к дальним берегам, обращаясь к маменьке: «Сусанна Васильевна, а мне б чего-нибудь горяченького?» – «Идем, Пал Василич. Пора уже и детей поднимать».
Алла Валерьевна Репина
Эта приключенческая книга основана на исторических документах и рукописях Павла Репина – белоэмигранта, офицера Русской эскадры Врангеля в Бизерте. Действие охватывает 1906–1922 гг.: период учебы героя в Первом кадетском корпусе и в Морском корпусе; участие гардемарин в контрреволюционных заговорах на Мурмане и в Верхневолжье; эвакуацию из Крыма в Константинополь и переход Русской эскадры в Африку; эмиграцию офицеров эскадры в Чехословакию. Значительная – тверская – часть повествования посвящена отеческому селу Кравотынь на Селигере, нравам Осташковского уезда и событиям вокруг Нило-Столобенского монастыря. Автор книги: петербургский журналист, родственница Павла Репина, от имени которого она и ведет повествование. Издание 2-е, переработанное и дополненное.
Алла Репина
Черный гардемарин, судьба и время
Часть I
В гостеприимной Финляндии
Братцы перебежчики
«Репин, Павел Васильевич?» – «Иван Михайлович?!».
Мы сдержанно поприветствовали друг друга. Подумать только, лейтенант Иван Лукин! И вот так встреча: в полусотне километров на север от Петрограда, в финских Териоках. Здесь Лукин, оказывается, участвует в судьбе русских офицеров, заведуя передаточным пунктом.
Какая из нас, прибывших, смесь одежд и лиц! В бушлатах, валенках, в форме, составленной вперемешку из предметов разного обмундирования, от флотского до пехотного… Вид офицеров таков, что мог бы служить иллюстрацией к поэме Пушкина «Братья разбойники». Многие драпанули из Совдепии без вещей, без документов, без средств к существованию. Нас, русских перебежчиков, приняла гостеприимная Финляндия.
Именно так. На собрании перебежчиков лейтенант Лукин произнес энергичную речь о том, что нас, обездоленных русских военных, бежавших от красного террора из Совдепии и прибывших в гостеприимную Финляндию, временно разместят в териокских санаториях, до наступления на Петроград.
Прислуги в общежитиях нет, кроме истопников, они же на амплуа кухонных работников. Все будем заняты уходом за помещениями, исполняя обязанности дворников и сторожей. Возможно, вскоре среди нас будут налажены работы по насущному сапожному делу и начнется подготовка к огородничеству.
В отношении довольствия следующий порядок: три раза в день чай (утренний может быть заменен кофе). Хлеба 1 фунт, мяса разного 1/2 фунта, крупы 1/4 фунта, сахару 1/30 фунта, чаю 1/90 фунта, масла на еду и приготовления 1/30 фунта, картофеля 1 и 1/4 фунта, молока 1/2 стакана, зелени и приварка на 1 марку. Довольствие на 15 марок в день и не дозволяется взамен пищевого получать денежное.
Из речи Лукина: «Если пребывание кого-либо из принятых в общежития будет признано нежелательным, то это лицо без объяснения ему причин немедленно удаляется».
По изложении общежицких инструкций Лукин перешел на речь простыми словами: «Братцы, не бросайте тень вообще на всяких русских. Понятно, где мужская компания, там выпивка, карты, прочая фривольность. Займите себя делом: снег там грести, вспомоществовать семейным беженцам. Олл райт?».
All right. Понятно. Кормить будут неважно, но с голоду не сдохнешь.
Под личную ответственность лейтенанта Лукина (де, Репин действительно выпускник Морского корпуса, гардемарин и к тому же участник контрреволюционного заговора моряков) из передаточного пункта в Териоках меня направили в одно из общежитий для перебежчиков, находящихся под наблюдением князя Александра Николаевича Оболенского, бывшего столичного градоначальника. Выглядит важно.
Санатория в Халиле
Итак, 17 февраля 1919-го года я сел в поезд в Териоках; после Райволы и Мустамяк вышел на станции Усикирко. Недалеко от Усикирко деревня Халила – симпатичная горстка улиц. Избы выкрашены красной питкярантской краской, учреждения казенной желтой, на снегу смотрится нарядно. Вывески в прежней орфографии. Объявления в витринах те же, что в Териоках: «Скупаем ковры из дворцов, золото, платину, жемчуг». Понятно. И здесь комиссионные конторы, агенты, а в лавках предметы из дворцов и музеев; русские загоняют кто что может.
Санатория – за деревней на берегу озера: внушительный 3-этажный корпус с башней, церковь, почта, флигели, просторный парк; говорят, прежде здесь был модный курорт. Теперь, кроме офицеров, в нем разместили и беженцев. Хорошеньких женщин не приметил; лишь у одной-двух славные фигурки, остальные бабы хлам. А я уже так соскучился по женскому обществу!
Скажу, тоска зеленая и смертная скука: оказаться в феврале месяце в уединенной санатории среди лесов Финляндии. Мне 20 лет. Я абсолютно здоров и вот сижу здесь: оторванный от дома, без намека на больного, а вокруг снег да сосны.
За стеной разнокалиберными голосами, вразброд, несколько глоток тянут: «Молодая гимназистка сына родила, не вспоила, не вскормила, в речку бро-осила». Это русские офицеры коротают, как и я, свое время. Комики мне тоже. Собрались сюда в надежде присоединиться к «контрреволюции», но, пока контрреволюционная деятельность нам не светит, поддерживают боевой дух пением. То пели «Как ныне сбирался», с хвастливым присвистом и громко крича припев: «Так за Царя, за Русь, за веру мы грянем громкое ура, ура, ура!». Потом затянули «Боже, Царя храни»…
Мне дали отдельный номер в этом временном офицерском общежитии. Номер чистенький. Тепло, уютно и не голодно. Приведя себя в божеский вид, сижу и чирикаю вступление в дневник:
Я начинаю этот первый лист дневника только потому, что оказался по воле судьбы в уединенной санатории среди лесов Финляндии, где царствует зеленая скука и, если ничем не заняться, то можно медленно, но верно превратиться в Обломова. Быть может, удастся мне впоследствии прочитать эти строки и перенестись в область воспоминаний, а может – убьют, тогда другие их прочтут и узнают о «Похождениях одного гарда»…
Вступление, перечитав, перечеркнул: болтливая банальщина!
По прибытии в расположение заполнял бумаги у канцеляриста (у штабных всегда кипит работа): «Я, Репин Павел Васильевич, родился 25 числа мая 1898 года в Петербурге. Метрическое свидетельство о рождении и крещении за номером 3936 выдано окружным судом С.-Петербурга. Вероисповедание православное. Сословное происхождение: отец имеет личное дворянство. Указ об отставке отца за номером 6605. Последнее звание отца до декрета об уничтожении сословий и гражданских чинов: отставной подполковник по Адмиралтейству»; и т.д., и т.п. В 1909 году был зачислен в Первый кадетский корпус, выпущен в 1916-м вице-унтер-офицером; в том же году поступил в Морской кадетский корпус, окончил в марте 1918 года гардемарином ускоренного выпуска в связи с закрытием корпуса.
Затем параграф «Участие в контрреволюции».
Третья, после пограничной стражи и после передаточного пункта в Териоках, проверка личности. У финнов зоологический страх перед большевицкими агентами и шпионами. Раз за разом переспрашивают мелкие подробности. К примеру, ротный номер в корпусе. Мой в Морском корпусе был 198. Но как они намерены его проверять?
Заполнив бумаги, дал работу канцеляристам.
Из развлечений в Халиле бильярд и кинематограф. После обеда показывали старые американские фильмы: «Военные действия в Черногории, съемки с натуры» и «Эксцентрики танцоры негры гг.Смит и Вильсон».
Смотрел и вспоминал, как пошли на эти фильмы в Петрограде в 1915-м году, в «Монтрэ» на Садовой угол Апраксина переулка. Как давно это было! В тот день поднялась обычная для марта вьюга; снежные заряды били в лицо. Мы шли по Невскому; на фасаде каланчи городской думы с трудом водружали флаги; один из флагов сорвался, древко зашибло кого-то из залепленных снегом зевак. Публика была возбуждена; пели «Боже, Царя храни»; учащаяся молодежь окружала трамваи и кричала ура. Нам дали отпуск от занятий: в тот день пришло известие о взятии Перемышля. Теперь мне скажут «Перемышль», а у меня о колоссальном событии Великой войны запечатлелось несерьезное: зашибленный зевака, вьюга и танцоры негры.
Скажут «контрреволюция», а у меня перед глазами, как теплым сентябрем 18-го года трясся в Твери на трамвае на Морозовскую Фабрику: принимать волжский буксир «Князь Михаил Ярославич». Смотрел в пыльное окно и видел себя уже чуть ли не героем контрреволюции, в своей неизменной голландке, но с белыми погончиками, и бряцающим палашом. Счастливый от грез о дебюте в роли командира задремал и – едва не проехал остановку.
Это подпараграф «Место участия в контрреволюции»: Тверская губерния.
«Архив русской революции»
Публика в санатории подобралась занятная. За третьим, вечерним (пустым) чаем к нашей офицерской компании присоседился разговорчивый субъект из петроградских беженцев. Мне подсказали: бывший член государственной думы (от кадетов); увещевает всех составлять житейские записки о событиях последних лет, очевидцами которых они стали. У него идея создать из них некий «архив русской революции», в назидание потомкам.
Говорит примерно так: мол, коль ранее пасхи наступления на Петроград все равно не станется, отчего бы в этот период затишья на театре брани господам офицерам не посвятить себя долгу перед потомками иным образом, чем с оружием в руках, а именно взявшись за перо. Де, мы все, соучастники, обязаны записать ход революции и ей предшествующее, начиная едва ли не с событий 1905 года, если кто их застал. Сообща отобразить дикость и варварство русской революции. Так, чтобы содрогнулись от ужаса Старая Европа и Новый Свет. Alles in allem, изложить историю деяний греков и варваров со страстью Геродота. Так, «чтобы ни события, ни дела не изгладились из памяти людей».
Витиеватая речь думца была перебита другим из беженцев:
«Бросьте вы эту затею, господа. Лично я глубоко убежден, через пятьдесят, ну, не пятьдесят, а скажем сто лет, где-то так в 2019 году, все наши пертурбации будут столь же малопонятны человеку будущего, как нам сейчас война Алой и Белой розы! Спросите любого в этой зале: Тюдоры, Спенсеры, в чем разница? Никто в момент не скажет. А через сто лет не вспомнят ни об одном из нас. Керенский, Троцкий, Ленин, большевики, кадеты, державы альянса – все сольется в один ряд исторических событий и имен глубокой древности. Держу пари, пройдет сто лет – и тю-тю, о нас забудут».
«Возражаю! – парировал думец. – Через сто лет мир будет с благодарностью вспоминать нас за преподанный ему урок».
Оставив спорщиков в столовой, мы с офицерами направились в бильярдную, но и там обнаружили дебаты. Среди игроков солировала пожилая дама. Старуха громко ругала советскую власть и сетовала на свои имущественные потери от революции:
«У меня был лучший очаг сельскохозяйственной культуры во всем уезде. В имении было до двадцати человек слуг, и жили они у меня припеваючи. Теперь эти канальи спят на моих подушках и в моих кроватях, бабы-солдатки растащили ковры и сервизы по избам, я пишу управляющему письма, а он, каналья, на них не отвечает».
«Мадам, но как управляющий на них ответит, если переписка с заграницей запрещена?» – «Глупости!»; и пошла-поехала костерить ту советскую власть, что больно долго задержалась…
Слава богу, думал я про себя, мои чувства ко всему произошедшему с нами за последние два года никак не замешаны на материальных потерях. У меня в моей сознательной жизни никогда ничего и не было, кроме формы обмундирования, смены белья и кадетского сундучка. Наша семья жила самой простой, трудовой жизнью.
Наша семья Репиных
В годы учения в Первом кадетском корпусе – рассаднике великих людей, привилегированном военном учебном заведении Империи, в котором учились августейшие кадеты – моей привилегией перед товарищами было происхождение: из нижних чинов. Наш отделенный офицер-воспитатель Беленков (кличка Бельмо), наказывая некого титулованного шалуна, ставил меня в пример: «Смотрите, господин кадет, вот старательный Репин, он вышел из бедной, живущей своими трудами семьи. Его отец выслужился из нижних чинов, получив личное дворянство, и, будучи уже в весьма преклонном возрасте, личным трудом содержит довольно большую семью. Вы же, господин кадет, не зная трудовой атмосферы, растете в роскоши, баловстве и праздности. Результаты плачевны…».
Я смущался этим акцентом на моем происхождении. Теперь его поддержу. Оно козырь против демагогии большевиков о вопиющем неравенстве возможностей, якобы бытовавшем в «царской» России.
Повторю: наша семья жила самой простой, трудовой жизнью. Из первых ярких впечатлений детства: «Едем на огород!». Папа в это время служил в Гвардейском экипаже заведывающим огородами, обозом и помощником заведывающего мундирными материалами. А «огородом» мы называли участок земли при Корпусном шоссе в Петербурге, принадлежащий Гвардейскому экипажу. По всей вероятности там должны были разводить овощи для нужд экипажа, но во время моего раннего детства там были только луга, с которых собирали сено для экипажных лошадей.
У дороги стоял небольшой деревянный домик с красной кровельной крышей – сторожка для матроса-сторожа, и большой сарай для сена. В сторожке, которую мы называли «зимним помещением», была лишь комната с русской печью. Перед этим помещением были сени с дверями на двор и в уборную. Двери на двор вели на маленькое крылечко с пятью ступеньками. На нем уже рано утром сидела наша мама, пила кофе со сторожем-матросом, окруженная курами и цыплятами. (Мама всегда была большой охотницей слушать матросские сказки).
За сторожкой было «матросское помещение» из досок: большая зала с нарами, где летом спали приехавшие на сенокос матросы. Там же была и «летняя кухня» с большим котлом для варки пищи. На другой стороне двора при сарае для сена было пристроено так называемое «летнее помещение». Там из крашеных досок были построены две небольших комнаты «для папы» и «для мамы», была стеклянная веранда, в которой перегородками отделили комнаты для детей.
Из летнего помещения чуть позднее, чем спозаранку, средним ходом подгребал к матросской сторожке отец и шутливо прерывал слушания о плаваниях к дальним берегам, обращаясь к маменьке: «Сусанна Васильевна, а мне б чего-нибудь горяченького?» – «Идем, Пал Василич. Пора уже и детей поднимать».