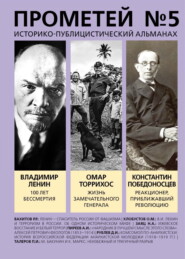По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Труд и досуг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тонко прочувствовал и описал этот аспект отказа от труда такой современный философ, как Джорджо Агамбен. Он не раз соглашается с важной мыслью Аристотеля, изложенной в «Метафизике», что человек – «это животное, которое способно на собственную неспособность»[18 - Агамбен Дж. Нагота. М.: Грюндиссе, 2014. С. 75. См. также: Агамбен Дж. Костер и рассказ. М.: Грюндиссе, 2015. С. 52.]. Человек может действовать и не действовать, делать и не делать, лениться и не лениться. Сама способность сделать что-либо предполагает способность не сделать. Агамбен видит, что власть часто использует отделение человека от способности не делать, которая на самом деле есть органичная часть способности сделать: «Ничто не превращает нас в нищих и не лишает свободы так, как это отчуждение неспособности»[19 - Агамбен. Нагота. С. 76.]. Содержание действия наполняется лишь тем, что мы не можем не делать. Напротив, само действие становится осмысленным, если в нем подразумевается возможность отказа. Тем самым труд человека содержит в себе отказ от труда. Интуитивно понятно, что даже армия или тюрьма содержит в себе возможность отказа от выполнения. Маргинальная форма этого отказа может принимать форму суицида.
Если хирург готовится сделать нам операцию, то нам лучше знать, что у него есть возможность отказаться от ее выполнения. Тот факт, что он все же решается на нее, свидетельствует о том, что это правильный, осознанный выбор. В случае с хирургом ситуация неспособности отказаться кажется абсурдной. Еще очевиднее дистанция между выбором трудиться или не трудиться, если мы говорим о потреблении и выборе человека. Наличие выбора имманентно предполагает отказ. Способность не выбрать и отказаться формирует вкус. Это тонко подмечает Агамбен, когда развивает мысль об акте творения: «Тот, кому не хватает вкуса, не способен удержаться от чего-либо, отсутствие вкуса – это всегда неспособность не сделать»[20 - Агамбен. Костер и рассказ. С. 55.].
Бездействие и «Лень»
Высшей формой отказа от работы является бездействие. Бездействие как ничегонеделанье сближает западную и восточную мысли. Великая «Лень» стала в России начала XX века важным достижением художественного авангарда.
Великую «Лень» – именно в такой редакции, с кавычками и с большой буквы, – воспел Казимир Малевич. В феврале 1921 года в Витебске он опубликовал памфлет «Лень как действительная истина человечества» с подзаголовком «Труд как средство достижения истины. Философия социалистической идеи»[21 - Малевич К. Лень как действительная истина человечества //Собр. соч. в 5 т. Т. 5 / Сост. А. С. Шатских. М.: Гилея, 2004. С. 178–187.]. Малевич превозносит лень как конечную цель, к которой устремлены и капитализм, и социализм. Лишь по недоразумению считает он этот термин пежоративным. За термином «Лень» как раз скрывается бездействие. Это состояние созерцания, покоя, вечного отдыха, блаженства и творчества, в этом контексте деньги – это знак соблазна блаженством лени[22 - Там же. С. 179.]. Лень – труд не «харчевой», но другого порядка, работа над совершенством, свобода действия и искания, без шаблона и фабричности, подражание Богу «в момент полного бездействия». Искусство, наука составляют труд другого порядка, где творчество, свобода действия, искания содержат сокрытое состояние «лени», которое ведет к совершенствованию полного физического бездействия, переводя все физическое в состояние действия одной мысли (182). Бездействие – это состояние мысли, работа ума особого рода.
Наиболее точным эквивалентом «Лени» Малевича является бездействие. Совершенством Бога «в момент полного бездействия» Бог почиет на троне лени и созерцает свою мудрость. Особенно важно то дополнительное разъяснение, что добавляет Малевич о бездействии, – это «действие как созерцание самомиропроизводства, наступает момент полной „лени“, ибо я уже не могу участвовать в совершенстве: оно достигнуто»[23 - Там же. С. 183.]. Это предельная точка лени/бездействия. Машинам Малевич тоже не отказывает в лени: «В будущем машина должна освободиться и возложить свой труд на другое существо, освободив себя из-под гнета социалистического общества, обеспечив себе тоже право на „Лень“»[24 - Там же. С. 181.].
Бездействие как цель труда легче всего обнаружить в труде художника и ученого. Бездействие объединяет труд и отдых на более высоком уровне самопроизводства мира, то есть человечества, свободного от производства, где не доминируют труд и отдых, подчиненные логике производства и капитала. Тем самым именно бездействие является выходом за рамки обоих, знаменует их предельное совершенство. В бездействии труд и досуг перестают быть оппозицией, бездействие является выходом за пределы и труда, и досуга. Малевич недоумевает по поводу сумасшествия и нелепости мира, в котором оказался: почему социализм не возьмется сразу за строительство правильного мира, противопоставив себя системе капитала и наемного труда с отчуждением?
В этой связи ясно, что текст Малевича о «Лени» не эпатаж, вернее, не только эпатаж, но серьезное размышление, серьезная критика. Это высказывание органично встраивается в его другие высказывания и является в какой-то степени их продолжением. Свой художественный стиль в этот период Малевич обозначает как супрематизм (от лат. supremus – наивысший), ищет универсальные формы – квадрат, круг, крест, универсальный цвет. Его супрематические крестьяне приобретают статичность, недвижность, в какой-то степени даже иконичность. Любой предмет подвергается ржавчине, поэтому то, что действительно достойно изображения, – это беспредметность, недвижность мироздания. В работе 1923 года «Мир как беспредметность. Труд и отдых» Малевич пишет: «Жизнь состоит из двух состояний: труда и отдыха, которые, в свою очередь, распадаются на множество различий форм труда и отдыха. Труд и отдых – это тело и лень, они неразделимы, поэтому отдых еще не есть достижение покоя – это затишье перед трудом… искусство в сути своей беспредметно, в нем отсутствует и труд, и отдых…» В искусстве предмет предохраняется от ржавчины жизни и становится беспредметным. Движности (гараж, фабрика, завод) противопоставлена недвижность мироздания. Предмет превращается в образ.
К похожим идеям подводит «взорванная художественная заповедь», «зародыш всех возможностей», как называл сам Малевич «Черный квадрат». Эта работа впервые демонстрируется в 1915 году в Петрограде, выставляется как икона в красном углу. Супрематическая беспредметность черного квадрата, по мысли Малевича, превосходит видимый мир. В 1919 году Малевич показал серию «Белое на белом» на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм». Впоследствии Малевич включал в экспозицию уже и просто пустые холсты[25 - Андреева Е. Казимир Малевич. Черный квадрат. СПб.: Арка, 2019. С. 6, 37–38, 49, 52.]. Это нулевой отсчет, «нуль форм», взрыв действительности. Это бездействие, которое содержит колоссальный творческий потенциал по преображению мира и созданию нового.
На это диалектическое понимание бездействия у Малевича обращает внимание и Джорджо Агамбен. Во время визита в Петербург в октябре 2018 года Агам-бен не раз подчеркивал, что бездействие (inoperosit?) не означает инерции. Подобно otium, бездействие – это особая форма действия, которая позволяет приостановить и дезактивировать действия человека и направить в новое русло, открыть для нового использования. В этом смысле бездействие содержится в любой деятельности человека – экономической, политической, религиозной, языковой. Только бездействие и созерцание делают человека по-настоящему счастливым. Именно в момент переключения, дезактивации человек является самим собой, и именно в этом, как разъясняют и Агамбен, и Малевич, проявляется действительная истина человечества. Бездействие как бесцельное, непрактичное, беспредметное действие становится Действием с большой буквы.
Заключение
Ирония ленивого действия Дюшана и Малевича в том, что сегодня именно их работы высоко оцениваются рынком. Правильно выполненный жест по отказу от труда получил свою валоризацию. Капитализм обволакивает этот жест, демонстрируя свою оболочковую всеядность, свою подобность вьюнку, который готов оплетать, или, иными словами, паразитировать, даже наиболее яркие практики отказа от труда и практики ленивого действия. Ready-made Дюшана символизировал собой отсутствие прибавочной стоимости, но именно этот жест придал арт-объектам Дюшана – «Фонтану», или перевернутому писсуару, «Сушилке для бутылок» – дополнительную ценность. «Черный квадрат» и тем более «Белое на белом» Малевича должны были служить тем же целям, чтобы показать вершину супрематического искусства, которое преодолевает само понятие искусства. Это нулевая отметка искусства, в которой творец дает самому мирозданию творить. Можно ли считать эти жесты, воспринимать этот отказ играть по правилам как отсутствие активности? Является ли парадоксом высокая рыночная оценка этих работ? И да и нет. Да, поскольку отказ от труда и бездействие или ленивое действие – это легко прочитываемый жест. Сложно ли, трудно ли купить фабрично изготовленный товар и выставить его в перевернутом виде? Много ли труда в том, чтобы закрасить черный квадрат с неровными краями, или в том, чтобы изобразить белое на белом? При этом высокая цена показывает, что рынок ценит эти проявления как высшие проявления активности, как практики, которые эквиваленты огромной массе рутинного труда.
Тема прокрастинации, отказа от труда и бездействия содержит в себе мощный потенциал для мысли и действия. Становится понятно, как возможен выход за рамки оппозиции труда и досуга, за рамки «культуры тотального труда». Осознание подлинного смысла таких действий позволяет человеку в большей степени стать свободным и счастливым. Отказ от труда и бездействие – не болезнь, но практики освобождения, практики создания нового, практики сопротивления и борьбы, наконец, практики создания новых ценностей и богатства.
Прогнозы Кейнса и Рассела начала XX века не сбылись: люди не стали меньше работать, искусство жить не стало достоянием большинства. Напротив, есть ощущение, что количество откровенно бессмысленной и бесполезной работы лишь увеличилось[26 - См.: Graeber D. Bullshit Jobs: a Teh ory. N.Y.: Simon & Schuster, 2018.]. Аппарат управления всюду растет, охранители безопасности всех типов несут свою службу, генерируются изменения ради их самих, растет вал бумаг, отчетов, проектов, который лишь увеличивается и быстрее устаревает благодаря цифровым технологиям. Поставить предел этому разрастанию бессмысленной работы, которая лучше бы не делалась, и должен подлинный активизм отказа и бездействия.
Список литературы
Агамбен Дж. (2015) Костер и рассказ. М.: Грюндиссе.
Агамбен Дж. (2014) Нагота. М.: Грюндиссе.
Андреева Е. (2019) Казимир Малевич. Черный квадрат. СПб.: Арка.
Афанасов Н. Б. (2019) Свободное время как новая форма труда: цифровые профессии и капитализм // Галлактика медиа: журнал медиаисследований. № 1. С. 44–61.
Бодрийяр Ж. (2006) Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика.
Вахштайн В., Маяцкий М. (2019) Случайный труд – принудительный досуг. Дискуссия // Логос. № 1. С. 1–26.
Вебер М. (1990) Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс.
Кейнс Дж. М. (2009) Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. № 6. С. 60–69.
Лафарг П. (2017) Право на лень. Религия капитала / Пер. с фр. М.: Либроком.
Лаццарато М. (2017) Марсель Дюшан и отказ трудиться. М.: Грюндриссе.
Малевич К. (2004) Лень как действительная истина человечества // Собр. соч. в 5 т. Т. 5 / Сост. А. С. Шатских. М.: Гилея. С. 178–187.
Паласиос-Уэрта И. (ред.) (2017) Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее. М.: Изд-во Института Гайдара.
Перри Дж. (2017) Искусство прокрастинации: как правильно тянуть время, лоботрясничать и откладывать на завтра. М.: Ад Маргинем Пресс.
Расков Д. Е. (2016) Бегство от мира и земной успех: экономическая культура зарубежных староверов // Идеи и Идеалы. № 4 (1). С. 37–53.
Расков Д. Е. (2019) Лень и труд: по мотивам Малевича // Логос. № 1. С. 259–272.
Graeber D. (2018) Bullshit Jobs: a Teh ory. N. Y. Simon & Schuster.
Pieper J. (1988 [1948]) Leisure, the basis of culture. South Bend. St. Augustine Press.
LAZINESS AND PROCRASTINATION AS PRACTICES OF ACTIVISM
Danila Raskov
Author’s affiliation: Associate Professor, PhD in Economics, Chair of the Problems of Interdisciplinary Synthesis in the Sphere of Social Sciences and Humanities, Saint Petersburg State University, Russia, danila.raskov@gmail.com.
Procrastination and inaction in the “culture of total labor” is often referred to as marginal activities or even diseases. Teh aim of the article is to show at the philosophical level that, on the contrary, procrastination, refusal of labor and inaction are active and creative practices that form meaningful work. Procrastination, or delaying the execution, allows you to perform many other, unplanned tasks. Refusal of work is embedded in creative work and is the practice whose potential in the form of “lazy action” or “Lazi-ness” is well understood in the framework of the artistic avant-garde (Malevich, Duchamp). Finally, the most radical form – inaction – allows us to go beyond the opposition of labor and leisure. Inaction as an aimless, pointless, impractical action becomes a switch for a new, creative act. Teh article, thereby, shows the pragmatics of such practices as procrastination, refusal of work and inaction for freedom of action.
Keywords: inaction, procrastination, leisure, idleness, laziness, refusal of work.
(Не-)невинность вина, или Культура свободного времени в эпоху тотального менеджмента
Александр Погребняк
В современном мире повсеместно наблюдается подъем качественного виноделия, растет спрос на вино, прогрессирует и пропагандируется культура винопития; кажется, что недалек тот день, когда передовые студенты и студентки окончательно перестанут спорить о политике, прикуривая одну сигарету от другой, и будут заниматься исключительно обсуждением нюансов букета рислинга и пино-нуара, уткнув носы в раструбы «профессиональных» бокалов и сравнивая свои впечатления с данными, опубликованными в блогах винных критиков (айфон всегда под рукой, возлежит рядом с кулером или декантером). Цены на вина топового сегмента идут вверх, как и доходы топ-менеджеров; те же, кого презрительно называют «офисным планктоном», в стилистике своего существования подражают элите – пусть они и не могут позволить себе великие крю Бордо и Бургундии, зато способны при случае щегольнуть осведомленностью о «недооцененных» апелласьонах и виноделах-экспериментаторах. Нарциссическое «я этого достоин» находится на дне едва ли не каждого бокала, вследствие чего потребление вина становится рабочим моментом процесса непрерывной оценки и самооценки, реализации жизни как делового предприятия, рассмотрения времени как капитала и, конечно, становится дополнением к тому чувству вины[27 - Слова «вино» и «вина» имеют разные корневые основы, но их созвучие не может не провоцировать контаминацию значений.], которое возникает (или должно возникать), если этот капитал расходуется неэффективно. Винопитие оказывается не чем-то противоположным «трудовой аскезе», но ее «иезуитской» составляющей, существенным аспектом бытия как производительного потребления жизни: дионисийское действо – теперь лишь эпизод аполлонической грезы об успешной карьере. Очевидно, что так было не всегда; но, вместо того чтобы предаваться бесплодной ностальгии, имеет смысл подумать о том, как возможно спасти то, что еще остается от иной формы жизни.
1. Buveurs de sang
До нас дошли записки одного литературно одаренного немца, в середине XIX века совершившего пешее путешествие из Парижа в Берн. Вот он останавливается в бургундском городке Осер и отмечает, что если бы вместо него здесь оказался гражданин Данжуа – «народный представитель, который в Национальном собрании столь рьяно выражал свое негодование по поводу того, что на демократически-социальном банкете в Тулузе все помещение было разукрашено в красный цвет», – то с ним наверняка случился бы от ужаса нервный припадок. Ведь здесь не одно какое-нибудь помещение, а весь город был разукрашен в красный цвет – и какой! «Самый несомненный, самый неприкрытый кроваво-красный цвет окрашивал стены и лестницы домов, блузы и рубашки людей; темно-красные потоки наполняли даже сточные канавы и обагряли мостовую, а какие-то бородатые, зловещие люди носили по улицам в больших чанах наводящую ужас темноватую, красно-пенистую жидкость. Казалось, красная республика господствует со всеми ее ужасами, казалось, что гильотина, паровая гильотина действует непрерывно, и buveurs de sang, о которых “Journal des Dеbats” умеет рассказывать такие ужасные вещи, явно устраивали здесь свои каннибальские оргии». Но, продолжает путешественник, вопреки первому впечатлению красная республика в Осере была совершенно невинной, ведь «это была красная республика бургундского сбора винограда, и кровопийцы, поглощающие с таким наслаждением благороднейшее изделие этой красной республики, это – не кто иные, как сами господа добропорядочные республиканцы, крупные и мелкие буржуа Парижа», так что вряд ли можно сомневаться в том, что и «почтенный гражданин Данжуа, несмотря на всю свою благонамеренность, полон в этом отношении красных вожделений».
Далее немецкий путешественник сетует на то, что не всякому дано в этой красной республике иметь полные карманы денег – тем более что сбор 1848 года оказался совершенно изумительного качества; зато окрестные крестьяне смогли купить по баснословно низкой цене остатки вина 1847 года, поскольку виноторговцы спешили освободить бочки под новое вино (так что некоторые даже опорожняли их в канавы). В итоге автор сам выпивает несколько бутылок как старого, так и нового вина и в последующие дни продолжает свой путь, любуясь пейзажами, сценами сбора и давления винограда и, конечно же, француженками, которые, на его вкус, выгодно отличаются от немецкой дюжей скотницы с ее драгунской поступью, мощной талией и «той безупречной равниной, которая тянется у нее от шеи до пяток и придает ей сзади вид обтянутой пестрым ситцем доски».
Вы, конечно, догадались, что имя этого бонвивана, ценителя хороших вин и хорошеньких девушек, – Фридрих Энгельс[28 - См.: Энгельс, 1956. С. 499–518.] (капиталистический менеджер и революционер-коммунист в одном лице!). Образ «красного» Осера, сформированный им в приведенном описании, не лишен диалектики. Конечно, первое, что бросается в глаза, – это эффект комической разрядки, достигаемый тем, что нагнетание мрачной атмосферы (одно только слово «ужас» повторяется несколько раз!) вдруг одним махом разрешается в невинную идиллию всеобщего винопития в точном соответствии с кантовским объяснением смеха как реакции на то, что наше напряженное ожидание чего-то вдруг резко обратилось в ничто. Но здесь дело не только в том, что ужасное «нечто» обратилось в веселое и безобидное «ничто»: важна конкретная природа того «нечто», что внушало здесь ужас, – и дело, конечно, не столько в том, что нам мерещатся сцены революционного кровопролития, сколько в том, что последнее приобретает характер фабричного производства («казалось, что гильотина, паровая гильотина действует непрерывно»). Мы можем вынести за скобки, оставить в прошлом эксцессы революции, но вызванный ею к жизни процесс, процесс функционирования абстрактной машины капиталистического предприятия, вменяющего каждому долг непрерывного труда для производства прибавочной стоимости, имеет место не в прошлом, а в настоящем (или же это прошлое, которое непрерывно преследует настоящее и заранее подчиняет себе всякое мыслимое будущее). Поэтому то «ничто», которое, пусть на некоторое время, способно прорвать своим лучом тучи, затянувшие небосвод жизненного времени и превратившие его во время рабочее, время неизбывного долженствования, – это именно вино, вещь отнюдь не невинная, ведь оно символизирует акт искупления (вспомним средневековые образы «пресса Господня»), акт остановки непрерывно действующего и неизменно трансцендентного «перводвигателя» (в роли которого теперь выступает прибавочная стоимость); иначе говоря, символизирует прощение долгов, снятие вины.
Таким образом, мы видим здесь как бы революцию внутри революции или даже контрреволюцию как революцию окончательную – ставящую на повестку дня не производство, но потребление, понятое в смысле оригеновского consummatione saeculi, «свершения века».
Диалектика же данного образа заключается в том, что схватываемое им в настоящем времени событие выступает в качестве «отрицания отрицания». При этом первое отрицание, отрицание отрицаемое, тут же возвращается, наподобие судьбы и/или природы, которая грозит рассеять надежду на избавление, едва дав ей возникнуть («паровая гильотина»): атмосфера всеобщего праздника, заявляющая о себе в момент первого впечатления, тут же подвергается серии особенных «будничных» замечаний и ассоциаций – например, мы сразу же понимаем, что главные участники вакханалии – это все-таки городские буржуа; что крестьяне могут себе позволить лишь обесцененное прошлогоднее вино; что парижские пролетарии навряд ли смогут позволить себе хоть какое-то бургундское и будут вынуждены довольствоваться единственно доступным им вином самого худшего сорта; что перепроизводство продукта представляет собой скорее проблему для производителя, нежели удачу, и т. д. и т. п. Эта диалектика сконденсирована в том клише, которое использовал Энгельс, – buveurs de sang (кровопийцы). Каким-то чудом в настоящий момент им удалось предстать в качестве участников «невинной» вакханалии (и, опосредованно, причащения), но этот момент буквально зажат между «исключением» революционного кровопролития и «правилом» (возводящим свою политическую генеалогию к этому «исключению») вампирической природы капитала, который функционирует лишь благодаря тому, что непрерывно потребляет кровь живого труда[29 - Напомним на всякий случай определение Маркса: «Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» (1988. С. 244). А выше он сравнивает процесс труда с процессом винопроизводства: «Процесс труда есть процесс между вещами, которые купил капиталист, между принадлежащими ему вещами. Поэтому продукт этого процесса принадлежит ему в той же мере, как продукт процесса брожения в его винном погребе» (Там же. С. 196–197).].
Итак, если наше прочтение верно, то Энгельс делает примерно следующее: вместо того чтобы предъявлять образ праздника в качестве итоговой заслуженной награды за прошлые труды (в качестве действительной цели всего предшествующего процесса), он описывает его как необходимую, но хрупкую, стремящуюся к исчезновению видимость, за которой (и, можно сказать, под видом, в форме которой) трудовой процесс непрерывно продолжается, пересекая настоящее и устремляясь в будущее. Форму процесса, в соответствии с которой любой эксцесс необходимо превращается в лишь еще одно дополнительное ответвление этого процесса, в итоге делающее его более эффективным, мы предлагаем называть тотальным менеджментом[30 - Точное определение этого принципа можно найти у позднего Лукача, который акцентирует два сущностных момента в развитии капитализма: во-первых, конституирование случайного характера отношения индивида к роду, что делает его потенциально свободным в отношении всякой зависимости, выдающей себя за нечто «естественное»; во-вторых, последовательно формирующуюся практику управления этой «случайностью» (при сохранении видимости свободы) с целью ее подчинения требованиям исторически возникшей «второй природы» (то есть капитала). «Достаточно припомнить, как сильно воздействует современный склонный к манипуляциям капитализм с его „регулирующим“ влиянием на рынок потребления и услуг, с его информационными средствами воздействия на массы, на сужение возможностей истинно личностных решений при создаваемой пропагандой видимости их максимального развития» (Лукач, 1991. С. 230).]. Интерес представляет как раз эта видимость – как было сказано, необходимая, но хрупкая: насколько преуспеет новейший капитализм в ее эксплуатации и насколько она может служить чем-то большим, нежели алиби капитализма, воплощением его идеологии?
2. Нам бы выходные взять и отменить
Образы ужасов революционного насилия, которые использует Энгельс в своем описании бургундских дионисий, нужно сопоставить с теми тревогой и разочарованием, которые в той или иной степени характерны для современного опыта свободного времени. Вспомним знакомый едва ли не каждому синдром выходных дней: счастливые надежды, которые возникают вечером пятницы, в воскресенье оборачиваются своей полной противоположностью, так что не от труда, но от отдыха готов современный человек бежать как от чумы. Исчерпывающую аналитику этого синдрома дал Жан Бодрийяр, показавший, что в поле современной идеологии мы оказываемся лишенными какой-либо возможности убить свое время (ведь только это и означало бы его действительное освобождение, а точнее говоря, освобождение нас от времени как такового!) постольку, поскольку, освобождая время от тех или иных заполняющих его «работ», мы достигаем лишь абстрагирования его нынешней исторически сложившейся формы как «хронометрического капитала лет, часов, дней, недель, „инвестированного“ каждым „согласно его воле“. Значит, оно уже не является более фактически „свободным“, так как управляется в своей хронометрии тотальной абстракцией, являющейся абстракцией системы производства» (2006. С. 195).
Напомним, что, по Бодрийяру (и здесь он ничуть не отступает от Маркса), для того, чтобы эта абстракция функционировала, необходимо непрерывное производство и воспроизводство симулякров, которые можно определить как нечто, по видимости, имманентное, но на деле сохраняющее трансцендентную отсылку: симулякр есть результат гипостазирования чистой видимости, ее навязчивого и зачастую насильственного подключения к принципу реальности. Так, например, досуг – это симулякр в том смысле, что своим досуговым практикам мы предъявляем требование быть реальным досугом; а поскольку «реальное» по определению трансцендентно, в имманентном плане мы переживаем его, как правило, в модусе нехватки – отсюда разочарование, тревога, чувство вины и т. п. Но то же самое верно, к примеру, и для императива экологичности: наша «пятничная» очарованность, патетическая инвестированность образами бережного отношения к окружающей среде (или, что то же, образами пагубных последствий ее загрязнения) автоматически отсылает к «воскресному» требованию «что-то, наконец, сделать» – как минимум преобразовать свою потребительскую корзину в сторону большей экологичности. Так же, как и досуг, экологичность превращается здесь в нечто прямо противоположное тому, что мы интуитивно от нее ожидаем:
Если хирург готовится сделать нам операцию, то нам лучше знать, что у него есть возможность отказаться от ее выполнения. Тот факт, что он все же решается на нее, свидетельствует о том, что это правильный, осознанный выбор. В случае с хирургом ситуация неспособности отказаться кажется абсурдной. Еще очевиднее дистанция между выбором трудиться или не трудиться, если мы говорим о потреблении и выборе человека. Наличие выбора имманентно предполагает отказ. Способность не выбрать и отказаться формирует вкус. Это тонко подмечает Агамбен, когда развивает мысль об акте творения: «Тот, кому не хватает вкуса, не способен удержаться от чего-либо, отсутствие вкуса – это всегда неспособность не сделать»[20 - Агамбен. Костер и рассказ. С. 55.].
Бездействие и «Лень»
Высшей формой отказа от работы является бездействие. Бездействие как ничегонеделанье сближает западную и восточную мысли. Великая «Лень» стала в России начала XX века важным достижением художественного авангарда.
Великую «Лень» – именно в такой редакции, с кавычками и с большой буквы, – воспел Казимир Малевич. В феврале 1921 года в Витебске он опубликовал памфлет «Лень как действительная истина человечества» с подзаголовком «Труд как средство достижения истины. Философия социалистической идеи»[21 - Малевич К. Лень как действительная истина человечества //Собр. соч. в 5 т. Т. 5 / Сост. А. С. Шатских. М.: Гилея, 2004. С. 178–187.]. Малевич превозносит лень как конечную цель, к которой устремлены и капитализм, и социализм. Лишь по недоразумению считает он этот термин пежоративным. За термином «Лень» как раз скрывается бездействие. Это состояние созерцания, покоя, вечного отдыха, блаженства и творчества, в этом контексте деньги – это знак соблазна блаженством лени[22 - Там же. С. 179.]. Лень – труд не «харчевой», но другого порядка, работа над совершенством, свобода действия и искания, без шаблона и фабричности, подражание Богу «в момент полного бездействия». Искусство, наука составляют труд другого порядка, где творчество, свобода действия, искания содержат сокрытое состояние «лени», которое ведет к совершенствованию полного физического бездействия, переводя все физическое в состояние действия одной мысли (182). Бездействие – это состояние мысли, работа ума особого рода.
Наиболее точным эквивалентом «Лени» Малевича является бездействие. Совершенством Бога «в момент полного бездействия» Бог почиет на троне лени и созерцает свою мудрость. Особенно важно то дополнительное разъяснение, что добавляет Малевич о бездействии, – это «действие как созерцание самомиропроизводства, наступает момент полной „лени“, ибо я уже не могу участвовать в совершенстве: оно достигнуто»[23 - Там же. С. 183.]. Это предельная точка лени/бездействия. Машинам Малевич тоже не отказывает в лени: «В будущем машина должна освободиться и возложить свой труд на другое существо, освободив себя из-под гнета социалистического общества, обеспечив себе тоже право на „Лень“»[24 - Там же. С. 181.].
Бездействие как цель труда легче всего обнаружить в труде художника и ученого. Бездействие объединяет труд и отдых на более высоком уровне самопроизводства мира, то есть человечества, свободного от производства, где не доминируют труд и отдых, подчиненные логике производства и капитала. Тем самым именно бездействие является выходом за рамки обоих, знаменует их предельное совершенство. В бездействии труд и досуг перестают быть оппозицией, бездействие является выходом за пределы и труда, и досуга. Малевич недоумевает по поводу сумасшествия и нелепости мира, в котором оказался: почему социализм не возьмется сразу за строительство правильного мира, противопоставив себя системе капитала и наемного труда с отчуждением?
В этой связи ясно, что текст Малевича о «Лени» не эпатаж, вернее, не только эпатаж, но серьезное размышление, серьезная критика. Это высказывание органично встраивается в его другие высказывания и является в какой-то степени их продолжением. Свой художественный стиль в этот период Малевич обозначает как супрематизм (от лат. supremus – наивысший), ищет универсальные формы – квадрат, круг, крест, универсальный цвет. Его супрематические крестьяне приобретают статичность, недвижность, в какой-то степени даже иконичность. Любой предмет подвергается ржавчине, поэтому то, что действительно достойно изображения, – это беспредметность, недвижность мироздания. В работе 1923 года «Мир как беспредметность. Труд и отдых» Малевич пишет: «Жизнь состоит из двух состояний: труда и отдыха, которые, в свою очередь, распадаются на множество различий форм труда и отдыха. Труд и отдых – это тело и лень, они неразделимы, поэтому отдых еще не есть достижение покоя – это затишье перед трудом… искусство в сути своей беспредметно, в нем отсутствует и труд, и отдых…» В искусстве предмет предохраняется от ржавчины жизни и становится беспредметным. Движности (гараж, фабрика, завод) противопоставлена недвижность мироздания. Предмет превращается в образ.
К похожим идеям подводит «взорванная художественная заповедь», «зародыш всех возможностей», как называл сам Малевич «Черный квадрат». Эта работа впервые демонстрируется в 1915 году в Петрограде, выставляется как икона в красном углу. Супрематическая беспредметность черного квадрата, по мысли Малевича, превосходит видимый мир. В 1919 году Малевич показал серию «Белое на белом» на выставке «Беспредметное творчество и супрематизм». Впоследствии Малевич включал в экспозицию уже и просто пустые холсты[25 - Андреева Е. Казимир Малевич. Черный квадрат. СПб.: Арка, 2019. С. 6, 37–38, 49, 52.]. Это нулевой отсчет, «нуль форм», взрыв действительности. Это бездействие, которое содержит колоссальный творческий потенциал по преображению мира и созданию нового.
На это диалектическое понимание бездействия у Малевича обращает внимание и Джорджо Агамбен. Во время визита в Петербург в октябре 2018 года Агам-бен не раз подчеркивал, что бездействие (inoperosit?) не означает инерции. Подобно otium, бездействие – это особая форма действия, которая позволяет приостановить и дезактивировать действия человека и направить в новое русло, открыть для нового использования. В этом смысле бездействие содержится в любой деятельности человека – экономической, политической, религиозной, языковой. Только бездействие и созерцание делают человека по-настоящему счастливым. Именно в момент переключения, дезактивации человек является самим собой, и именно в этом, как разъясняют и Агамбен, и Малевич, проявляется действительная истина человечества. Бездействие как бесцельное, непрактичное, беспредметное действие становится Действием с большой буквы.
Заключение
Ирония ленивого действия Дюшана и Малевича в том, что сегодня именно их работы высоко оцениваются рынком. Правильно выполненный жест по отказу от труда получил свою валоризацию. Капитализм обволакивает этот жест, демонстрируя свою оболочковую всеядность, свою подобность вьюнку, который готов оплетать, или, иными словами, паразитировать, даже наиболее яркие практики отказа от труда и практики ленивого действия. Ready-made Дюшана символизировал собой отсутствие прибавочной стоимости, но именно этот жест придал арт-объектам Дюшана – «Фонтану», или перевернутому писсуару, «Сушилке для бутылок» – дополнительную ценность. «Черный квадрат» и тем более «Белое на белом» Малевича должны были служить тем же целям, чтобы показать вершину супрематического искусства, которое преодолевает само понятие искусства. Это нулевая отметка искусства, в которой творец дает самому мирозданию творить. Можно ли считать эти жесты, воспринимать этот отказ играть по правилам как отсутствие активности? Является ли парадоксом высокая рыночная оценка этих работ? И да и нет. Да, поскольку отказ от труда и бездействие или ленивое действие – это легко прочитываемый жест. Сложно ли, трудно ли купить фабрично изготовленный товар и выставить его в перевернутом виде? Много ли труда в том, чтобы закрасить черный квадрат с неровными краями, или в том, чтобы изобразить белое на белом? При этом высокая цена показывает, что рынок ценит эти проявления как высшие проявления активности, как практики, которые эквиваленты огромной массе рутинного труда.
Тема прокрастинации, отказа от труда и бездействия содержит в себе мощный потенциал для мысли и действия. Становится понятно, как возможен выход за рамки оппозиции труда и досуга, за рамки «культуры тотального труда». Осознание подлинного смысла таких действий позволяет человеку в большей степени стать свободным и счастливым. Отказ от труда и бездействие – не болезнь, но практики освобождения, практики создания нового, практики сопротивления и борьбы, наконец, практики создания новых ценностей и богатства.
Прогнозы Кейнса и Рассела начала XX века не сбылись: люди не стали меньше работать, искусство жить не стало достоянием большинства. Напротив, есть ощущение, что количество откровенно бессмысленной и бесполезной работы лишь увеличилось[26 - См.: Graeber D. Bullshit Jobs: a Teh ory. N.Y.: Simon & Schuster, 2018.]. Аппарат управления всюду растет, охранители безопасности всех типов несут свою службу, генерируются изменения ради их самих, растет вал бумаг, отчетов, проектов, который лишь увеличивается и быстрее устаревает благодаря цифровым технологиям. Поставить предел этому разрастанию бессмысленной работы, которая лучше бы не делалась, и должен подлинный активизм отказа и бездействия.
Список литературы
Агамбен Дж. (2015) Костер и рассказ. М.: Грюндиссе.
Агамбен Дж. (2014) Нагота. М.: Грюндиссе.
Андреева Е. (2019) Казимир Малевич. Черный квадрат. СПб.: Арка.
Афанасов Н. Б. (2019) Свободное время как новая форма труда: цифровые профессии и капитализм // Галлактика медиа: журнал медиаисследований. № 1. С. 44–61.
Бодрийяр Ж. (2006) Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика.
Вахштайн В., Маяцкий М. (2019) Случайный труд – принудительный досуг. Дискуссия // Логос. № 1. С. 1–26.
Вебер М. (1990) Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс.
Кейнс Дж. М. (2009) Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. № 6. С. 60–69.
Лафарг П. (2017) Право на лень. Религия капитала / Пер. с фр. М.: Либроком.
Лаццарато М. (2017) Марсель Дюшан и отказ трудиться. М.: Грюндриссе.
Малевич К. (2004) Лень как действительная истина человечества // Собр. соч. в 5 т. Т. 5 / Сост. А. С. Шатских. М.: Гилея. С. 178–187.
Паласиос-Уэрта И. (ред.) (2017) Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее. М.: Изд-во Института Гайдара.
Перри Дж. (2017) Искусство прокрастинации: как правильно тянуть время, лоботрясничать и откладывать на завтра. М.: Ад Маргинем Пресс.
Расков Д. Е. (2016) Бегство от мира и земной успех: экономическая культура зарубежных староверов // Идеи и Идеалы. № 4 (1). С. 37–53.
Расков Д. Е. (2019) Лень и труд: по мотивам Малевича // Логос. № 1. С. 259–272.
Graeber D. (2018) Bullshit Jobs: a Teh ory. N. Y. Simon & Schuster.
Pieper J. (1988 [1948]) Leisure, the basis of culture. South Bend. St. Augustine Press.
LAZINESS AND PROCRASTINATION AS PRACTICES OF ACTIVISM
Danila Raskov
Author’s affiliation: Associate Professor, PhD in Economics, Chair of the Problems of Interdisciplinary Synthesis in the Sphere of Social Sciences and Humanities, Saint Petersburg State University, Russia, danila.raskov@gmail.com.
Procrastination and inaction in the “culture of total labor” is often referred to as marginal activities or even diseases. Teh aim of the article is to show at the philosophical level that, on the contrary, procrastination, refusal of labor and inaction are active and creative practices that form meaningful work. Procrastination, or delaying the execution, allows you to perform many other, unplanned tasks. Refusal of work is embedded in creative work and is the practice whose potential in the form of “lazy action” or “Lazi-ness” is well understood in the framework of the artistic avant-garde (Malevich, Duchamp). Finally, the most radical form – inaction – allows us to go beyond the opposition of labor and leisure. Inaction as an aimless, pointless, impractical action becomes a switch for a new, creative act. Teh article, thereby, shows the pragmatics of such practices as procrastination, refusal of work and inaction for freedom of action.
Keywords: inaction, procrastination, leisure, idleness, laziness, refusal of work.
(Не-)невинность вина, или Культура свободного времени в эпоху тотального менеджмента
Александр Погребняк
В современном мире повсеместно наблюдается подъем качественного виноделия, растет спрос на вино, прогрессирует и пропагандируется культура винопития; кажется, что недалек тот день, когда передовые студенты и студентки окончательно перестанут спорить о политике, прикуривая одну сигарету от другой, и будут заниматься исключительно обсуждением нюансов букета рислинга и пино-нуара, уткнув носы в раструбы «профессиональных» бокалов и сравнивая свои впечатления с данными, опубликованными в блогах винных критиков (айфон всегда под рукой, возлежит рядом с кулером или декантером). Цены на вина топового сегмента идут вверх, как и доходы топ-менеджеров; те же, кого презрительно называют «офисным планктоном», в стилистике своего существования подражают элите – пусть они и не могут позволить себе великие крю Бордо и Бургундии, зато способны при случае щегольнуть осведомленностью о «недооцененных» апелласьонах и виноделах-экспериментаторах. Нарциссическое «я этого достоин» находится на дне едва ли не каждого бокала, вследствие чего потребление вина становится рабочим моментом процесса непрерывной оценки и самооценки, реализации жизни как делового предприятия, рассмотрения времени как капитала и, конечно, становится дополнением к тому чувству вины[27 - Слова «вино» и «вина» имеют разные корневые основы, но их созвучие не может не провоцировать контаминацию значений.], которое возникает (или должно возникать), если этот капитал расходуется неэффективно. Винопитие оказывается не чем-то противоположным «трудовой аскезе», но ее «иезуитской» составляющей, существенным аспектом бытия как производительного потребления жизни: дионисийское действо – теперь лишь эпизод аполлонической грезы об успешной карьере. Очевидно, что так было не всегда; но, вместо того чтобы предаваться бесплодной ностальгии, имеет смысл подумать о том, как возможно спасти то, что еще остается от иной формы жизни.
1. Buveurs de sang
До нас дошли записки одного литературно одаренного немца, в середине XIX века совершившего пешее путешествие из Парижа в Берн. Вот он останавливается в бургундском городке Осер и отмечает, что если бы вместо него здесь оказался гражданин Данжуа – «народный представитель, который в Национальном собрании столь рьяно выражал свое негодование по поводу того, что на демократически-социальном банкете в Тулузе все помещение было разукрашено в красный цвет», – то с ним наверняка случился бы от ужаса нервный припадок. Ведь здесь не одно какое-нибудь помещение, а весь город был разукрашен в красный цвет – и какой! «Самый несомненный, самый неприкрытый кроваво-красный цвет окрашивал стены и лестницы домов, блузы и рубашки людей; темно-красные потоки наполняли даже сточные канавы и обагряли мостовую, а какие-то бородатые, зловещие люди носили по улицам в больших чанах наводящую ужас темноватую, красно-пенистую жидкость. Казалось, красная республика господствует со всеми ее ужасами, казалось, что гильотина, паровая гильотина действует непрерывно, и buveurs de sang, о которых “Journal des Dеbats” умеет рассказывать такие ужасные вещи, явно устраивали здесь свои каннибальские оргии». Но, продолжает путешественник, вопреки первому впечатлению красная республика в Осере была совершенно невинной, ведь «это была красная республика бургундского сбора винограда, и кровопийцы, поглощающие с таким наслаждением благороднейшее изделие этой красной республики, это – не кто иные, как сами господа добропорядочные республиканцы, крупные и мелкие буржуа Парижа», так что вряд ли можно сомневаться в том, что и «почтенный гражданин Данжуа, несмотря на всю свою благонамеренность, полон в этом отношении красных вожделений».
Далее немецкий путешественник сетует на то, что не всякому дано в этой красной республике иметь полные карманы денег – тем более что сбор 1848 года оказался совершенно изумительного качества; зато окрестные крестьяне смогли купить по баснословно низкой цене остатки вина 1847 года, поскольку виноторговцы спешили освободить бочки под новое вино (так что некоторые даже опорожняли их в канавы). В итоге автор сам выпивает несколько бутылок как старого, так и нового вина и в последующие дни продолжает свой путь, любуясь пейзажами, сценами сбора и давления винограда и, конечно же, француженками, которые, на его вкус, выгодно отличаются от немецкой дюжей скотницы с ее драгунской поступью, мощной талией и «той безупречной равниной, которая тянется у нее от шеи до пяток и придает ей сзади вид обтянутой пестрым ситцем доски».
Вы, конечно, догадались, что имя этого бонвивана, ценителя хороших вин и хорошеньких девушек, – Фридрих Энгельс[28 - См.: Энгельс, 1956. С. 499–518.] (капиталистический менеджер и революционер-коммунист в одном лице!). Образ «красного» Осера, сформированный им в приведенном описании, не лишен диалектики. Конечно, первое, что бросается в глаза, – это эффект комической разрядки, достигаемый тем, что нагнетание мрачной атмосферы (одно только слово «ужас» повторяется несколько раз!) вдруг одним махом разрешается в невинную идиллию всеобщего винопития в точном соответствии с кантовским объяснением смеха как реакции на то, что наше напряженное ожидание чего-то вдруг резко обратилось в ничто. Но здесь дело не только в том, что ужасное «нечто» обратилось в веселое и безобидное «ничто»: важна конкретная природа того «нечто», что внушало здесь ужас, – и дело, конечно, не столько в том, что нам мерещатся сцены революционного кровопролития, сколько в том, что последнее приобретает характер фабричного производства («казалось, что гильотина, паровая гильотина действует непрерывно»). Мы можем вынести за скобки, оставить в прошлом эксцессы революции, но вызванный ею к жизни процесс, процесс функционирования абстрактной машины капиталистического предприятия, вменяющего каждому долг непрерывного труда для производства прибавочной стоимости, имеет место не в прошлом, а в настоящем (или же это прошлое, которое непрерывно преследует настоящее и заранее подчиняет себе всякое мыслимое будущее). Поэтому то «ничто», которое, пусть на некоторое время, способно прорвать своим лучом тучи, затянувшие небосвод жизненного времени и превратившие его во время рабочее, время неизбывного долженствования, – это именно вино, вещь отнюдь не невинная, ведь оно символизирует акт искупления (вспомним средневековые образы «пресса Господня»), акт остановки непрерывно действующего и неизменно трансцендентного «перводвигателя» (в роли которого теперь выступает прибавочная стоимость); иначе говоря, символизирует прощение долгов, снятие вины.
Таким образом, мы видим здесь как бы революцию внутри революции или даже контрреволюцию как революцию окончательную – ставящую на повестку дня не производство, но потребление, понятое в смысле оригеновского consummatione saeculi, «свершения века».
Диалектика же данного образа заключается в том, что схватываемое им в настоящем времени событие выступает в качестве «отрицания отрицания». При этом первое отрицание, отрицание отрицаемое, тут же возвращается, наподобие судьбы и/или природы, которая грозит рассеять надежду на избавление, едва дав ей возникнуть («паровая гильотина»): атмосфера всеобщего праздника, заявляющая о себе в момент первого впечатления, тут же подвергается серии особенных «будничных» замечаний и ассоциаций – например, мы сразу же понимаем, что главные участники вакханалии – это все-таки городские буржуа; что крестьяне могут себе позволить лишь обесцененное прошлогоднее вино; что парижские пролетарии навряд ли смогут позволить себе хоть какое-то бургундское и будут вынуждены довольствоваться единственно доступным им вином самого худшего сорта; что перепроизводство продукта представляет собой скорее проблему для производителя, нежели удачу, и т. д. и т. п. Эта диалектика сконденсирована в том клише, которое использовал Энгельс, – buveurs de sang (кровопийцы). Каким-то чудом в настоящий момент им удалось предстать в качестве участников «невинной» вакханалии (и, опосредованно, причащения), но этот момент буквально зажат между «исключением» революционного кровопролития и «правилом» (возводящим свою политическую генеалогию к этому «исключению») вампирической природы капитала, который функционирует лишь благодаря тому, что непрерывно потребляет кровь живого труда[29 - Напомним на всякий случай определение Маркса: «Капитал – это мертвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» (1988. С. 244). А выше он сравнивает процесс труда с процессом винопроизводства: «Процесс труда есть процесс между вещами, которые купил капиталист, между принадлежащими ему вещами. Поэтому продукт этого процесса принадлежит ему в той же мере, как продукт процесса брожения в его винном погребе» (Там же. С. 196–197).].
Итак, если наше прочтение верно, то Энгельс делает примерно следующее: вместо того чтобы предъявлять образ праздника в качестве итоговой заслуженной награды за прошлые труды (в качестве действительной цели всего предшествующего процесса), он описывает его как необходимую, но хрупкую, стремящуюся к исчезновению видимость, за которой (и, можно сказать, под видом, в форме которой) трудовой процесс непрерывно продолжается, пересекая настоящее и устремляясь в будущее. Форму процесса, в соответствии с которой любой эксцесс необходимо превращается в лишь еще одно дополнительное ответвление этого процесса, в итоге делающее его более эффективным, мы предлагаем называть тотальным менеджментом[30 - Точное определение этого принципа можно найти у позднего Лукача, который акцентирует два сущностных момента в развитии капитализма: во-первых, конституирование случайного характера отношения индивида к роду, что делает его потенциально свободным в отношении всякой зависимости, выдающей себя за нечто «естественное»; во-вторых, последовательно формирующуюся практику управления этой «случайностью» (при сохранении видимости свободы) с целью ее подчинения требованиям исторически возникшей «второй природы» (то есть капитала). «Достаточно припомнить, как сильно воздействует современный склонный к манипуляциям капитализм с его „регулирующим“ влиянием на рынок потребления и услуг, с его информационными средствами воздействия на массы, на сужение возможностей истинно личностных решений при создаваемой пропагандой видимости их максимального развития» (Лукач, 1991. С. 230).]. Интерес представляет как раз эта видимость – как было сказано, необходимая, но хрупкая: насколько преуспеет новейший капитализм в ее эксплуатации и насколько она может служить чем-то большим, нежели алиби капитализма, воплощением его идеологии?
2. Нам бы выходные взять и отменить
Образы ужасов революционного насилия, которые использует Энгельс в своем описании бургундских дионисий, нужно сопоставить с теми тревогой и разочарованием, которые в той или иной степени характерны для современного опыта свободного времени. Вспомним знакомый едва ли не каждому синдром выходных дней: счастливые надежды, которые возникают вечером пятницы, в воскресенье оборачиваются своей полной противоположностью, так что не от труда, но от отдыха готов современный человек бежать как от чумы. Исчерпывающую аналитику этого синдрома дал Жан Бодрийяр, показавший, что в поле современной идеологии мы оказываемся лишенными какой-либо возможности убить свое время (ведь только это и означало бы его действительное освобождение, а точнее говоря, освобождение нас от времени как такового!) постольку, поскольку, освобождая время от тех или иных заполняющих его «работ», мы достигаем лишь абстрагирования его нынешней исторически сложившейся формы как «хронометрического капитала лет, часов, дней, недель, „инвестированного“ каждым „согласно его воле“. Значит, оно уже не является более фактически „свободным“, так как управляется в своей хронометрии тотальной абстракцией, являющейся абстракцией системы производства» (2006. С. 195).
Напомним, что, по Бодрийяру (и здесь он ничуть не отступает от Маркса), для того, чтобы эта абстракция функционировала, необходимо непрерывное производство и воспроизводство симулякров, которые можно определить как нечто, по видимости, имманентное, но на деле сохраняющее трансцендентную отсылку: симулякр есть результат гипостазирования чистой видимости, ее навязчивого и зачастую насильственного подключения к принципу реальности. Так, например, досуг – это симулякр в том смысле, что своим досуговым практикам мы предъявляем требование быть реальным досугом; а поскольку «реальное» по определению трансцендентно, в имманентном плане мы переживаем его, как правило, в модусе нехватки – отсюда разочарование, тревога, чувство вины и т. п. Но то же самое верно, к примеру, и для императива экологичности: наша «пятничная» очарованность, патетическая инвестированность образами бережного отношения к окружающей среде (или, что то же, образами пагубных последствий ее загрязнения) автоматически отсылает к «воскресному» требованию «что-то, наконец, сделать» – как минимум преобразовать свою потребительскую корзину в сторону большей экологичности. Так же, как и досуг, экологичность превращается здесь в нечто прямо противоположное тому, что мы интуитивно от нее ожидаем: