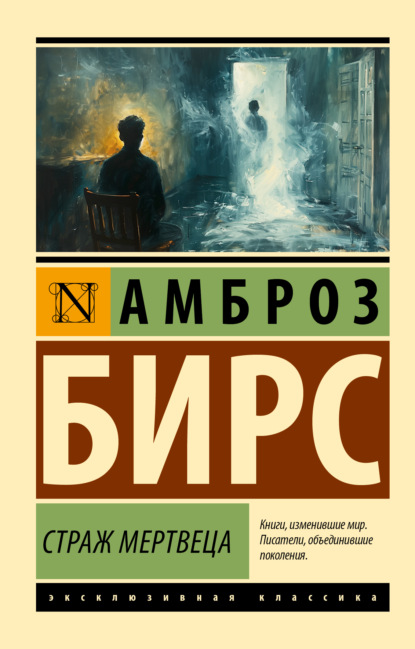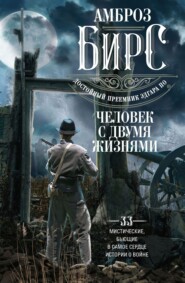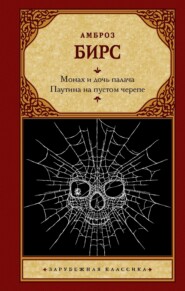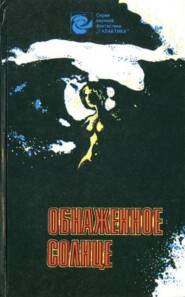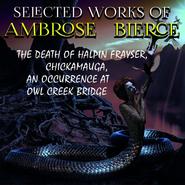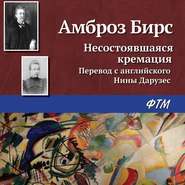По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страж мертвеца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несколько крыс – по-видимому, давние обитательницы здания – пришли, обнюхивая воздух, и зашныряли кругом. Одна из них взобралась на кучу обломков, под которой лежало ружье; за ней последовала другая, третья. Сиринг глядел на них сначала безучастно, потом заинтересовался ими; но, когда его смятенный ум пронзила мысль, что они могут задеть курок, он криком прогнал их.
– Это не ваше дело! – крикнул он.
Крысы ушли; они вернутся потом, взберутся на его лицо, отъедят ему нос, перегрызут горло – он знал это, но надеялся, что до тех пор он успеет умереть.
Теперь ничто не отвлекало его взгляда от маленького металлического кольца с черной дырой посередине. Острая боль во лбу не прекращалась ни на минуту. Он чувствовал, как она проникала все глубже и глубже в мозг, пока ее не остановило бревно, на котором покоилась его голова. Моментами она становилась невыносимой; тогда он начинал неистово колотить своей израненной рукой по щепкам, чтобы заглушить эту ужасную боль. Казалось, что она пульсирует медленными, регулярными толчками, и каждый следующий толчок казался сильнее и острее предыдущего. Временами ему казалось, что фатальная пуля наконец попала ему в голову; он вскрикивал. Уже не было мыслей о доме, о жене и детях, о родине, о славе. Все впечатления стерлись. Весь мир исчез без следа. Здесь, в этом хаосе деревянных обломков, сосредоточилась вся вселенная. Здесь было бессмертие – каждое страдание длилось бесконечно. Его пульс отбивал вечность.
Джером Сиринг, этот храбрец, грозный противник, сильный, решительный боец, был теперь бледен, как привидение. Нижняя челюсть его отпала, глаза вылезли из орбит, он дрожал, как струна, все тело его покрылось холодным потом, он пронзительно застонал. Он не сошел с ума – он был повергнут в ужас.
Шаря кругом себя своей истерзанной, окровавленной рукой, он наконец ухватился за палочку, кусок расщепленной доски, и, толкнув ее, почувствовал, что она поддается. Она лежала параллельно его телу… Согнув, насколько позволяло место, свой локоть, он мог мало-помалу отодвинуть ее на несколько дюймов. Наконец она была совершенно освобождена из мусора, покрывавшего его ноги. Он мог поднять ее во всю длину. Великая надежда озарила его душу: может быть, он сможет продвинуть ее выше – или, правильнее говоря, назад – настолько, чтобы приподнять конец ствола и отвести в сторону ружье; или если оно засело там очень крепко, то держать палочку так, чтобы пуля отклонилась в сторону. С этой целью он толкал палочку назад, дюйм за дюймом, сдерживая дыхание из боязни, чтобы это не отняло у него силы, и более чем когда-либо был не способен отвести глаза от ружья, которое теперь, быть может, поспешит воспользоваться ускользающей возможностью. Во всяком случае, он чего-то достиг: занятый попыткой спасти себя, он не так остро чувствовал боль в голове и перестал стонать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы его стучали, как кастаньеты.
Палочка перестала двигаться под давлением его руки. Он навалился на нее что было силы и изменил, насколько был в силах, ее направление, но вдруг встретил какое-то препятствие позади; конец ее был еще слишком далеко, чтобы он мог достать дуло ружья. Правда, в длину она почти доходила до курка, который не был погребен в куче мусора, и потому он мог кое-как видеть его правым глазом. Он пробовал переломить палочку рукой, но у него не было для этого опоры. Когда он убедился в неудаче, страх вернулся к нему с удесятеренной силой. Черное отверстие дула, казалось, угрожало ему еще более тяжелой и неминуемой смертью, как бы в наказание за его попытку к возмущению. Место в голове, где должна была пройти пуля, стало болеть еще сильнее. Его опять стало трясти.
И вдруг он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы и опустил веки. Он еще не истощил всех средств к спасению: в уме его обрисовался новый план освобождения. Подняв передний конец палочки, он начал осторожно проталкивать ее сквозь мусор, вдоль ружья, пока она не коснулась курка. Потом, закрыв глаза, он нажал ею изо всей силы на курок.
Выстрела не последовало, ружье разрядилось в тот момент, когда выпало из его рук. Но Джером Сиринг был мертв.
Лейтенант Адриан Сиринг, командовавший одним из пикетов, через которые прошел его брат Джером, когда он отправлялся на разведку, сидел за бруствером, внимательно прислушиваясь к окружающему. Ухо его улавливало самые слабые звуки: крик птицы, лай белки, шорох ветра в ветках сосен – ничто не ускользало от его напряженного внимания. Вдруг прямо против линии, которую занимал его отряд, он услышал слабый, беспорядочный гул; он был похож на смягченный расстоянием шум от упавшего строения. В эту минуту к нему подошел сзади офицер.
– Лейтенант, – произнес адъютант, отдавая честь, – полковник приказывает вам продвинуться вперед и нащупать врага, если вы его найдете. В противном случае продолжайте продвигаться до тех пор, пока не получите приказа остановиться. Есть основание думать, что неприятель отступил.
Лейтенант кивнул головой, не сказав ни слова; офицер удалился. Через минуту солдаты, шепотом оповещенные сержантами о выступлении, вышли из-за прикрытий и двинулись рассыпным строем вперед; зубы у них были стиснуты, сердца сильно колотились. Лейтенант машинально взглянул на часы: восемнадцать минут седьмого.
Отряд застрельщиков-северян продвигался через плантацию к горе. Они обошли разрушенное здание с двух сторон, ничего не заметив. Позади них, на коротком расстоянии, следовал их командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на руины и увидел мертвое тело, наполовину засыпанное обломками досок и бревен. Оно было так густо покрыто пылью, что его одежда напоминала серую форму южан. Лицо убитого было белое, с желтизной; щеки его провалились, виски сморщились и странно уменьшили лоб; верхняя губа, слегка приподнятая, обнажала белые, плотно сжатые зубы. Волосы его были смочены потом, а лицо было мокрое, как покрытая росой трава вокруг. С того места, где стоял офицер, ружье не было видно; человек, казалось, был убит при падении здания.
– Умер неделю назад, – сказал офицер и машинально вынул часы, как бы для того, чтобы проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.
Случай в теснине Колтера [2 - © Перевод. А. Рослова.]
– Как вы считаете, полковник, ваш бравый Колтер поставил бы здесь пушку? – спросил генерал.
Очевидно, он говорил не совсем серьезно: даже самый отчаянный артиллерист не поставил бы здесь орудие. Полковнику подумалось, что командир дивизии шутливо намекал на их последний разговор, в котором полковник излишне хвалил капитана Колтера за храбрость.
– Генерал, – ответил он как можно мягче, указывая в направлении противника, – Колтер поставил бы пушку где угодно, только бы ядра долетели до этих людей…
– Это единственная позиция, – заметил генерал.
Значит, он не шутил.
Речь шла о впадине на остром гребне холма. По ней пролегала огороженная извилистая дорога, которая, достигнув вершины, полого спускалась через редкий лесок к рядам противника. На милю влево и вправо склон заняла пехота федералов. Казалось, будто атмосферное давление прижало ее к земле, не давая подняться выше.
Этот участок был недоступен для вражеской артиллерии. Пушку можно было поставить только в теснине, всю ширину которой занимала дорога. Со стороны конфедератов эта точка простреливалась двумя батареями, разместившимися в километре от впадины, на соседнем склоне за ручьем. Все пушки, кроме одной, скрывались за садовыми деревьями, одна же была дерзко выставлена на открытую лужайку прямо перед пышной усадьбой плантатора. Но несмотря на это, орудие находилось в безопасности, поскольку пехота получила приказ не стрелять. Таким образом, в тот прелестный летний день вряд ли кто-нибудь захотел бы поставить пушку в теснине Колтера – так называлась эта впадина.
Прямо на дороге лежали три или четыре мертвые лошади, а трупы их всадников разбросало по краю дороги и ниже по склону. Все были кавалеристами войск Федерации, за исключением квартирмейстера. Генерал, командующий дивизией, и полковник, возглавляющий бригаду, поднялись на холм вместе с сопровождением и штабными, чтобы оценить артиллерию противника, которая немедленно окуталась клубами дыма. Осматривать орудия с повадками каракатицы – бесполезная затея, поэтому разведку решили прекратить. По окончании спешного отступления, завершившего вылазку, и состоялась беседа, свидетелями которой мы стали.
– Достать их можно только отсюда, – задумчиво повторил генерал.
Полковник серьезно взглянул на него.
– Здесь едва хватит места для одной пушки, генерал. Одной против двенадцати.
– Верно, только одной, – ответил командир, будто собираясь, но так и не собравшись улыбнуться. – Но ведь ваш бравый Колтер сто?ит целой батареи.
Теперь ирония была очевидна. Это разозлило полковника, но он не нашелся, что ответить. Дух военной субординации не терпит ни пререканий, ни обсуждений.
В эту минуту по дороге не спеша поднялся молодой артиллерийский офицер в сопровождении сигналиста. Это и был капитан Колтер. На вид – не более двадцати трех лет, среднего роста, стройный и гибкий, а его посадка в седле выдавала в нем гражданского. Особенно же выделялось его лицо: тонкие черты, вздернутый нос, серые глаза, светлые усики и длинные спутанные волосы. Одежда его была в некотором беспорядке. Фуражка сдвинута чуть набекрень, мундир застегнут только в районе портупеи, обнажая белую рубаху, довольно чистую для текущей стадии боевых действий. Тем не менее небрежны были только его вид и посадка, на лице же был написан живейший интерес к окружающему. Его серые глаза обшаривали окрестности, как прожекторы, большей частью задерживаясь на небе над тесниной, хотя до тех пор, пока капитан не добрался до вершины, там ничего невозможно было разглядеть.
Поравнявшись с командирами дивизии и бригады, артиллерист механически отдал честь и собирался проехать мимо. Полковник дал ему знак остановиться.
– Капитан Колтер, – сказал он, – на следующем подъеме противник расположил двенадцать орудий. Если я правильно понял генерала, он приказывает вам выкатить пушку на вершину холма и вступить в бой.
Повисло молчание. Генерал бесстрастно наблюдал за похожим на рваное облако синего дыма полком, продирающимся сквозь густые заросли вверх по склону холма. Но капитан не смотрел на командира. Он заговорил, медленно и с заметным усилием:
– На следующем подъеме, сэр? Орудия расположены возле дома?
– А, вы раньше бывали здесь. Прямо у дома.
– И нам действительно… необходимо… атаковать их? Приказ не подлежит обсуждению?
Он заметно побледнел. Его голос охрип и срывался. Полковник был изумлен и задет. Он украдкой взглянул на командира, но лицо того было неподвижно. Оно казалось отлитым из бронзы.
Мгновением позже генерал двинулся прочь вместе со штабными и сопровождающими. Полковник, униженный и возмущенный, хотел было отдать капитана Колтера под арест, но тот тихо бросил несколько слов сигналисту, отдал честь и поскакал прямо к теснине, где остановил лошадь и поднес бинокль к глазам, застыв, как изваяние, и резко выделяясь на фоне неба.
Сигналист притормозил и исчез в лесу. Его рожок запел среди кедров, и почти сразу оттуда появилась, грохоча и подпрыгивая в облаке пыли, замаскированная и готовая к бою пушка, запряженная шестеркой лошадей и сопровождаемая полным артиллерийским расчетом. Ее повезли мимо мертвых лошадей по направлению к роковому гребню. Взмах руки капитана, расторопные движения заряжающих, и сразу, как только затих грохот колес, огромное белое облако поплыло вниз по склону, и оглушительный выстрел ознаменовал начало сражения в теснине Колтера.
Не будем описывать в подробностях события и ход этого страшного боя – он шел к очевидному исходу, менялся лишь накал отчаяния. В ту же секунду, когда орудие капитана Колтера изрыгнуло облако дыма, двенадцать облаков поднялись в ответ из-за деревьев, окружающих усадьбу плантатора. Глубокое многоголосое эхо раскатилось по долине, и с той минуты до самого конца канониры Федерации вели свой безнадежный бой в вихре живого металла, чей полет подобен молнии и чье деяние – смерть.
Не желая наблюдать за борьбой, которой не мог помочь, и за бойней, которую не мог предотвратить, полковник поднялся по склону в паре сотен метров слева от теснины, которая, хоть и не была видна оттуда, изрыгала все новые и новые клубы дыма и походила на жерло вулкана перед извержением.
Полковник смотрел в бинокль на расчеты противника, подмечая результаты стараний Колтера – если, конечно, тот был все еще жив и направлял огонь. Он увидел, что артиллеристы, игнорируя орудия, чьи позиции можно было вычислить только по клубам дыма, сосредоточили огонь на единственной пушке, стоящей на открытом месте – на лужайке перед домом. Снаряды взрывались вокруг этого орудия с интервалами в несколько секунд. Судя по струйкам дыма над пробитой крышей, некоторые попадали в дом. Фигуры мертвых людей и лошадей были едва видны.
– Если наши товарищи так расправляются с неприятелем, имея в распоряжении одну-единственную пушку, – заметил полковник адъютанту, оказавшемуся рядом, – то какие же потери они сами должны терпеть от тех двенадцати? Спуститесь и передайте поздравления командиру нашего орудия – его стрельба исключительно точна. – Он обернулся к генерал-адъютанту: – Вы заметили, с какой неохотой Колтер подчинился приказу?
– Да, сэр, заметил.
– В таком случае будьте добры, молчите об этом. Не думаю, что генерал удосужится начать разбирательство. Ему и так хватит хлопот, пока он будет объяснять, с чего мы вдруг затеяли игру в кошки-мышки с арьергардом отступающего врага.
К ним подошел молодой офицер, запыхавшийся от подъема по склону. Не успев отдать честь, он выпалил:
– Полковник, я прибыл по приказу полковника Хармона с рапортом. Орудия врага находятся в пределах досягаемости наших стрелков, и некоторые из них – в пределах видимости с нескольких позиций на склоне.
Бригадный командир взглянул на него безо всякого интереса.
– Я знаю, – тихо ответил он.
Юный адъютант был изрядно ошарашен.
– Полковник Хармон просит разрешения открыть стрельбу по артиллеристам противника, – заикаясь, сказал он.
– Это не ваше дело! – крикнул он.
Крысы ушли; они вернутся потом, взберутся на его лицо, отъедят ему нос, перегрызут горло – он знал это, но надеялся, что до тех пор он успеет умереть.
Теперь ничто не отвлекало его взгляда от маленького металлического кольца с черной дырой посередине. Острая боль во лбу не прекращалась ни на минуту. Он чувствовал, как она проникала все глубже и глубже в мозг, пока ее не остановило бревно, на котором покоилась его голова. Моментами она становилась невыносимой; тогда он начинал неистово колотить своей израненной рукой по щепкам, чтобы заглушить эту ужасную боль. Казалось, что она пульсирует медленными, регулярными толчками, и каждый следующий толчок казался сильнее и острее предыдущего. Временами ему казалось, что фатальная пуля наконец попала ему в голову; он вскрикивал. Уже не было мыслей о доме, о жене и детях, о родине, о славе. Все впечатления стерлись. Весь мир исчез без следа. Здесь, в этом хаосе деревянных обломков, сосредоточилась вся вселенная. Здесь было бессмертие – каждое страдание длилось бесконечно. Его пульс отбивал вечность.
Джером Сиринг, этот храбрец, грозный противник, сильный, решительный боец, был теперь бледен, как привидение. Нижняя челюсть его отпала, глаза вылезли из орбит, он дрожал, как струна, все тело его покрылось холодным потом, он пронзительно застонал. Он не сошел с ума – он был повергнут в ужас.
Шаря кругом себя своей истерзанной, окровавленной рукой, он наконец ухватился за палочку, кусок расщепленной доски, и, толкнув ее, почувствовал, что она поддается. Она лежала параллельно его телу… Согнув, насколько позволяло место, свой локоть, он мог мало-помалу отодвинуть ее на несколько дюймов. Наконец она была совершенно освобождена из мусора, покрывавшего его ноги. Он мог поднять ее во всю длину. Великая надежда озарила его душу: может быть, он сможет продвинуть ее выше – или, правильнее говоря, назад – настолько, чтобы приподнять конец ствола и отвести в сторону ружье; или если оно засело там очень крепко, то держать палочку так, чтобы пуля отклонилась в сторону. С этой целью он толкал палочку назад, дюйм за дюймом, сдерживая дыхание из боязни, чтобы это не отняло у него силы, и более чем когда-либо был не способен отвести глаза от ружья, которое теперь, быть может, поспешит воспользоваться ускользающей возможностью. Во всяком случае, он чего-то достиг: занятый попыткой спасти себя, он не так остро чувствовал боль в голове и перестал стонать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы его стучали, как кастаньеты.
Палочка перестала двигаться под давлением его руки. Он навалился на нее что было силы и изменил, насколько был в силах, ее направление, но вдруг встретил какое-то препятствие позади; конец ее был еще слишком далеко, чтобы он мог достать дуло ружья. Правда, в длину она почти доходила до курка, который не был погребен в куче мусора, и потому он мог кое-как видеть его правым глазом. Он пробовал переломить палочку рукой, но у него не было для этого опоры. Когда он убедился в неудаче, страх вернулся к нему с удесятеренной силой. Черное отверстие дула, казалось, угрожало ему еще более тяжелой и неминуемой смертью, как бы в наказание за его попытку к возмущению. Место в голове, где должна была пройти пуля, стало болеть еще сильнее. Его опять стало трясти.
И вдруг он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы и опустил веки. Он еще не истощил всех средств к спасению: в уме его обрисовался новый план освобождения. Подняв передний конец палочки, он начал осторожно проталкивать ее сквозь мусор, вдоль ружья, пока она не коснулась курка. Потом, закрыв глаза, он нажал ею изо всей силы на курок.
Выстрела не последовало, ружье разрядилось в тот момент, когда выпало из его рук. Но Джером Сиринг был мертв.
Лейтенант Адриан Сиринг, командовавший одним из пикетов, через которые прошел его брат Джером, когда он отправлялся на разведку, сидел за бруствером, внимательно прислушиваясь к окружающему. Ухо его улавливало самые слабые звуки: крик птицы, лай белки, шорох ветра в ветках сосен – ничто не ускользало от его напряженного внимания. Вдруг прямо против линии, которую занимал его отряд, он услышал слабый, беспорядочный гул; он был похож на смягченный расстоянием шум от упавшего строения. В эту минуту к нему подошел сзади офицер.
– Лейтенант, – произнес адъютант, отдавая честь, – полковник приказывает вам продвинуться вперед и нащупать врага, если вы его найдете. В противном случае продолжайте продвигаться до тех пор, пока не получите приказа остановиться. Есть основание думать, что неприятель отступил.
Лейтенант кивнул головой, не сказав ни слова; офицер удалился. Через минуту солдаты, шепотом оповещенные сержантами о выступлении, вышли из-за прикрытий и двинулись рассыпным строем вперед; зубы у них были стиснуты, сердца сильно колотились. Лейтенант машинально взглянул на часы: восемнадцать минут седьмого.
Отряд застрельщиков-северян продвигался через плантацию к горе. Они обошли разрушенное здание с двух сторон, ничего не заметив. Позади них, на коротком расстоянии, следовал их командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на руины и увидел мертвое тело, наполовину засыпанное обломками досок и бревен. Оно было так густо покрыто пылью, что его одежда напоминала серую форму южан. Лицо убитого было белое, с желтизной; щеки его провалились, виски сморщились и странно уменьшили лоб; верхняя губа, слегка приподнятая, обнажала белые, плотно сжатые зубы. Волосы его были смочены потом, а лицо было мокрое, как покрытая росой трава вокруг. С того места, где стоял офицер, ружье не было видно; человек, казалось, был убит при падении здания.
– Умер неделю назад, – сказал офицер и машинально вынул часы, как бы для того, чтобы проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.
Случай в теснине Колтера [2 - © Перевод. А. Рослова.]
– Как вы считаете, полковник, ваш бравый Колтер поставил бы здесь пушку? – спросил генерал.
Очевидно, он говорил не совсем серьезно: даже самый отчаянный артиллерист не поставил бы здесь орудие. Полковнику подумалось, что командир дивизии шутливо намекал на их последний разговор, в котором полковник излишне хвалил капитана Колтера за храбрость.
– Генерал, – ответил он как можно мягче, указывая в направлении противника, – Колтер поставил бы пушку где угодно, только бы ядра долетели до этих людей…
– Это единственная позиция, – заметил генерал.
Значит, он не шутил.
Речь шла о впадине на остром гребне холма. По ней пролегала огороженная извилистая дорога, которая, достигнув вершины, полого спускалась через редкий лесок к рядам противника. На милю влево и вправо склон заняла пехота федералов. Казалось, будто атмосферное давление прижало ее к земле, не давая подняться выше.
Этот участок был недоступен для вражеской артиллерии. Пушку можно было поставить только в теснине, всю ширину которой занимала дорога. Со стороны конфедератов эта точка простреливалась двумя батареями, разместившимися в километре от впадины, на соседнем склоне за ручьем. Все пушки, кроме одной, скрывались за садовыми деревьями, одна же была дерзко выставлена на открытую лужайку прямо перед пышной усадьбой плантатора. Но несмотря на это, орудие находилось в безопасности, поскольку пехота получила приказ не стрелять. Таким образом, в тот прелестный летний день вряд ли кто-нибудь захотел бы поставить пушку в теснине Колтера – так называлась эта впадина.
Прямо на дороге лежали три или четыре мертвые лошади, а трупы их всадников разбросало по краю дороги и ниже по склону. Все были кавалеристами войск Федерации, за исключением квартирмейстера. Генерал, командующий дивизией, и полковник, возглавляющий бригаду, поднялись на холм вместе с сопровождением и штабными, чтобы оценить артиллерию противника, которая немедленно окуталась клубами дыма. Осматривать орудия с повадками каракатицы – бесполезная затея, поэтому разведку решили прекратить. По окончании спешного отступления, завершившего вылазку, и состоялась беседа, свидетелями которой мы стали.
– Достать их можно только отсюда, – задумчиво повторил генерал.
Полковник серьезно взглянул на него.
– Здесь едва хватит места для одной пушки, генерал. Одной против двенадцати.
– Верно, только одной, – ответил командир, будто собираясь, но так и не собравшись улыбнуться. – Но ведь ваш бравый Колтер сто?ит целой батареи.
Теперь ирония была очевидна. Это разозлило полковника, но он не нашелся, что ответить. Дух военной субординации не терпит ни пререканий, ни обсуждений.
В эту минуту по дороге не спеша поднялся молодой артиллерийский офицер в сопровождении сигналиста. Это и был капитан Колтер. На вид – не более двадцати трех лет, среднего роста, стройный и гибкий, а его посадка в седле выдавала в нем гражданского. Особенно же выделялось его лицо: тонкие черты, вздернутый нос, серые глаза, светлые усики и длинные спутанные волосы. Одежда его была в некотором беспорядке. Фуражка сдвинута чуть набекрень, мундир застегнут только в районе портупеи, обнажая белую рубаху, довольно чистую для текущей стадии боевых действий. Тем не менее небрежны были только его вид и посадка, на лице же был написан живейший интерес к окружающему. Его серые глаза обшаривали окрестности, как прожекторы, большей частью задерживаясь на небе над тесниной, хотя до тех пор, пока капитан не добрался до вершины, там ничего невозможно было разглядеть.
Поравнявшись с командирами дивизии и бригады, артиллерист механически отдал честь и собирался проехать мимо. Полковник дал ему знак остановиться.
– Капитан Колтер, – сказал он, – на следующем подъеме противник расположил двенадцать орудий. Если я правильно понял генерала, он приказывает вам выкатить пушку на вершину холма и вступить в бой.
Повисло молчание. Генерал бесстрастно наблюдал за похожим на рваное облако синего дыма полком, продирающимся сквозь густые заросли вверх по склону холма. Но капитан не смотрел на командира. Он заговорил, медленно и с заметным усилием:
– На следующем подъеме, сэр? Орудия расположены возле дома?
– А, вы раньше бывали здесь. Прямо у дома.
– И нам действительно… необходимо… атаковать их? Приказ не подлежит обсуждению?
Он заметно побледнел. Его голос охрип и срывался. Полковник был изумлен и задет. Он украдкой взглянул на командира, но лицо того было неподвижно. Оно казалось отлитым из бронзы.
Мгновением позже генерал двинулся прочь вместе со штабными и сопровождающими. Полковник, униженный и возмущенный, хотел было отдать капитана Колтера под арест, но тот тихо бросил несколько слов сигналисту, отдал честь и поскакал прямо к теснине, где остановил лошадь и поднес бинокль к глазам, застыв, как изваяние, и резко выделяясь на фоне неба.
Сигналист притормозил и исчез в лесу. Его рожок запел среди кедров, и почти сразу оттуда появилась, грохоча и подпрыгивая в облаке пыли, замаскированная и готовая к бою пушка, запряженная шестеркой лошадей и сопровождаемая полным артиллерийским расчетом. Ее повезли мимо мертвых лошадей по направлению к роковому гребню. Взмах руки капитана, расторопные движения заряжающих, и сразу, как только затих грохот колес, огромное белое облако поплыло вниз по склону, и оглушительный выстрел ознаменовал начало сражения в теснине Колтера.
Не будем описывать в подробностях события и ход этого страшного боя – он шел к очевидному исходу, менялся лишь накал отчаяния. В ту же секунду, когда орудие капитана Колтера изрыгнуло облако дыма, двенадцать облаков поднялись в ответ из-за деревьев, окружающих усадьбу плантатора. Глубокое многоголосое эхо раскатилось по долине, и с той минуты до самого конца канониры Федерации вели свой безнадежный бой в вихре живого металла, чей полет подобен молнии и чье деяние – смерть.
Не желая наблюдать за борьбой, которой не мог помочь, и за бойней, которую не мог предотвратить, полковник поднялся по склону в паре сотен метров слева от теснины, которая, хоть и не была видна оттуда, изрыгала все новые и новые клубы дыма и походила на жерло вулкана перед извержением.
Полковник смотрел в бинокль на расчеты противника, подмечая результаты стараний Колтера – если, конечно, тот был все еще жив и направлял огонь. Он увидел, что артиллеристы, игнорируя орудия, чьи позиции можно было вычислить только по клубам дыма, сосредоточили огонь на единственной пушке, стоящей на открытом месте – на лужайке перед домом. Снаряды взрывались вокруг этого орудия с интервалами в несколько секунд. Судя по струйкам дыма над пробитой крышей, некоторые попадали в дом. Фигуры мертвых людей и лошадей были едва видны.
– Если наши товарищи так расправляются с неприятелем, имея в распоряжении одну-единственную пушку, – заметил полковник адъютанту, оказавшемуся рядом, – то какие же потери они сами должны терпеть от тех двенадцати? Спуститесь и передайте поздравления командиру нашего орудия – его стрельба исключительно точна. – Он обернулся к генерал-адъютанту: – Вы заметили, с какой неохотой Колтер подчинился приказу?
– Да, сэр, заметил.
– В таком случае будьте добры, молчите об этом. Не думаю, что генерал удосужится начать разбирательство. Ему и так хватит хлопот, пока он будет объяснять, с чего мы вдруг затеяли игру в кошки-мышки с арьергардом отступающего врага.
К ним подошел молодой офицер, запыхавшийся от подъема по склону. Не успев отдать честь, он выпалил:
– Полковник, я прибыл по приказу полковника Хармона с рапортом. Орудия врага находятся в пределах досягаемости наших стрелков, и некоторые из них – в пределах видимости с нескольких позиций на склоне.
Бригадный командир взглянул на него безо всякого интереса.
– Я знаю, – тихо ответил он.
Юный адъютант был изрядно ошарашен.
– Полковник Хармон просит разрешения открыть стрельбу по артиллеристам противника, – заикаясь, сказал он.