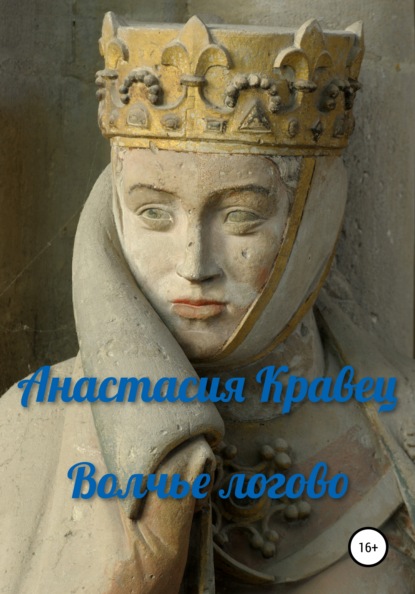По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волчье логово
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Жозеф, мне недолго уже осталось пребывать на этом свете. Но все это время я буду горячо молиться, чтобы вы простили мне эту горькую четверть часа, на которую я лишил вас свободы и вверг во мрак… Моему поступку нет оправданий. Прошу вас, выскажитесь в свою защиту. Откройте мне свою душу… О, почему вы раньше этого не сделали?..
Сарацин медленно опустился на колени и сел у постели настоятеля.
– Увы, – отвечал он еле слышно, – что я могу вам сказать? Я люблю ее. Да, я безумен и несдержан. Но в этот раз я не хотел ни боли, ни зла. Хотел лишь лучшего. Она сама отдала мне свое сердце, а потом и тело… Ничего из этого я не брал силой. О, вам не понять… Но это так удивительно и так согревает душу, когда хоть единственная женщина на свете отвечает нежностью и пылкой страстью на мои жестокие, звериные ласки! И ее глаза полны глубокой и самой искренней любви… тогда как глаза других наполнялись лишь отвращением и страхом… Как мог я после этого пожелать ей зла? Я хотел в едином вздохе излить ей всю свою тяжелую страсть, все бешенство, всю нежность… О да! Ее восторженный взгляд и наивная доверчивость будили во мне невыносимую нежность! Я задыхался от нее, и от прилива чувств на глазах у меня выступали слезы… Вам никогда не казалось, что в любви мужчины к женщине есть что-то неуловимое от любви матери к своему ребенку? Много лет прожив в монастыре, я лишен был возможности иметь детей… Но она пробудила во мне странное чувство… В те минуты, когда мне не хотелось покрывать ее тело неистовыми поцелуями, во мне просыпалось желание защищать ее от мира, укладывать спать, играть ее чудесными волосами и трепетно целовать тонкие пальчики… О, если бы вы только видели, как мило и с каким серьезным видом эта девочка читает книги, как она прикладывает пальчик ко лбу, вы, быть может, смогли бы понять, что я чувствую…
Странная, неясная улыбка пробежала по губам сарацина. Сейчас в его смягчившихся чертах не было и тени жестокости и мрака. Казалось, сквозь них снова проступает что-то далекое и забытое…
– Я вижу, что вы любите ее. Но, Жозеф, разве вы не понимаете, что это безумие! Она девушка из дворянского рода, ее руки просит сын самого монсеньора де Леруа. А вы лишь жалкий, бедный монах. Ваша связь не может быть признана ни Богом, ни людьми…
– Скажите это моему сердцу, которое разрывается! Она нужна мне. Я умру без нее! Она хочет, чтобы я увез ее отсюда…
– О, это очень опасно!
– Не опаснее, чем мой поход в замок дяди. Но на этот раз цель в тысячу раз важнее опасности… Если бы вы когда-нибудь любили женщину, вы бы меня поняли.
Тут сердце аббата не выдержало, и он выдохнул:
– Богу известно, я любил однажды…
Жозеф поднял на него удивленный взор.
– Она носила звенящие браслеты и белое покрывало…
Ярко горела одинокая свеча. За окном с шумом падали редкие капли дождя. На миг в комнате стало невыразимо тесно…
Потом Жозеф сделал несколько судорожных движений и закрыл лицо руками.
– Почему вы никогда не говорили мне? Я так любил ее… Я готов принять и полюбить все, что касалось ее жизни…
– Потому что мы совершили огромный грех. Я был служителем Господа, а она – замужней женщиной… Как могу я после этого упрекать вас? И моя и ее вера учили строгости и целомудрию, но мы позабыли об этом, как будто никогда и не слышали… Она была созданием солнца и света. Она умела лишь любить… Я никогда ее не забуду…
– Ни один человек, однажды увидевший ее, не смог бы забыть ее образ, – тихо проговорил Жозеф, глядя в пустоту.
– Идите! – внезапно воскликнул аббат, хватая его руки. – Идите, пока не поздно! Вырвите вашего ангела из рук злых и безжалостных людей! Попытайтесь дать ей счастье… Попытайтесь сами обрести его… Скорее, спешите, пока не поздно! И прощайте, мое обожаемое дитя! Помните, что я всегда любил вас… Любил ее в вас…
Жозеф с жаром в последний раз сжал руки аббата и быстро вышел из кельи.
Отец Франсуа снова остался наедине с трепещущим язычком пламени… Всей своей благочестивой жизнью, своими милосердными поступками и служением Иисусу он пытался искупить этот тяжкий грех, совершенный в далеком прошлом. Но только в эту минуту, в одиночестве лежа на постели, он понял, что все это было напрасно… Чтобы он ни делал, с ним всегда оставался запах восточных цветов, жар гранатовых уст и тень колеблющегося от тихого ветерка длинного, белого покрывала…
XXXIX. Жестокие признания
Я говорю тебе: ты – Петр, и на камне сем Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного.
Библия. Евангелие от Матфея. 16
После разговора с Жозефом аббат призвал к себе всех братьев. Странную картину представляла собой полутемная, холодная келья. Бледный и утомленный настоятель неподвижно лежал в постели. Его строгий, четко очерченный профиль выделялся на фоне серой стены. Свеча уже угасла, и сквозь маленькое окошко проникали в келью бледные лучи рождающегося дня. Черные и редкие силуэты монахов выступали из сумерек, все еще наполнявших вторую половину комнаты. Руки были сложены в жесте смирения и послушания, но лица были суровы и насторожены…
– Мои силы иссякают, – слабым голосом начал аббат, не глядя на своих подчиненных. – Они уходят, как песок, который просачивается сквозь пальцы… Мой жизненный путь подходит к концу. Эта несчастная обитель нуждается в новом пастыре. По старинному обычаю это я должен его назначить.
В келье стало так тихо, что, казалось, можно было услышать чужое дыхание.
– Я хочу, чтобы после моей смерти кресло настоятеля занял брат Жозеф.
Слова отца Франсуа были встречены все той же гробовой тишиной.
– Если, по какой-то причине, Жозеф не сможет занять мое место, вы сами изберете себе разумного и мудрого пастыря, который будет управлять вами вместо него… Да благословит вас Бог в нашем трудном деле и горькой жизни, дети мои! Вот все, что я, несчастный и слабый старик, могу вам сказать, находясь у порога вечности…
Настоятель с трудом приподнял руку, одновременно благословляя собравшихся и отпуская их.
Монахи молча покинули келью. Однако, брат Колен задержался у ложа аббата.
– Вы хотите мне что-то сказать перед долгой разлукой, друг мой? – спросил отец Франсуа, поднимая удивленный взор на стоящего у его изголовья человека.
– Многое, – ответил Колен, и странная, печальная улыбка пробежала по его спокойному и замкнутому лицу. – Все то, о чем так долго молчало мое сердце…
– Так говорите. Я всегда готов выслушать исповедь моего старого друга.
– Что же, она не покажется вам сладким утешением. Зато станет правдивым и полезным напутствием на дороге в Царствие Небесное. Безумию, которое вы только что совершили, нет равных. Вы поставили во главе этой забытой Богом обители сумасшедшего сарацина! Человека без веры, без совести и здравого смысла… Неужели вы настолько лишились рассудка, что действительно думаете, будто такой человек способен управлять монастырем?
– Я делаю это из любви. Я хочу защитить Жозефа…
– В том-то и дело! Все ваши поступки продиктованы мимолетными вспышками чувств и глупой жалостью! Но разве об этом должен думать настоятель, в руках которого жизнь целой обители?!
– Вы правы, в моих руках была целая обитель. Но за то время, пока я управлял ею, на моих глазах не угасла ни одна из жизней…
– Зато наш монастырь медленно, но верно катится в пучину безвестности и тлена, – горячо и убежденно возразил брат Колен. – По вашей вине мы лишились покровительства монсеньора де Леруа! По вашей вине теперь нашим братством будет править потерявший человеческий облик безумец! Всю свою жизнь вы толковали о любви и милосердии… И где плоды ваших возвышенных проповедей?! Я вижу вокруг одно лишь разрушение и тьму… Ваши бессмысленные и вредные грезы привели к увяданию Господней славы и влияния Церкви в этом глухом и мрачном месте!
– Разве Господь, искупивший кровью своей страдания рода людского, не предпочел бы, чтобы к его ногам приносили раскаявшиеся души и добрые поступки, вместо лживых восхвалений и позолоченных алтарей? – со вздохом спросил аббат.
– Если бы все слуги Господни руководствовались вашими красивыми, но пустыми словами, величие и мощь нашей Матери Церкви давно бы превратились в жалкий прах! – с нетерпеливым жестом воскликнул брат Колен. – Если бы святые епископы и миссионеры постоянно думали о милосердии и жалости, сколько бы народов им удалось окрестить? Они не поймали бы в свой невод ни одной рыбы!
– Если бы все слуги церкви чаще думали о жалости и человеческих слезах, сколь многих деяний, запятнавших нашу веру кровью и грязью, удалось бы избежать! И тогда бы даже души язычников сами устремились к кресту, ища у него защиты и милосердия. Ведь когда-то так оно и было…
– Так говорят и еретики, не признающие нашей святой веры! – возмущенно перебил его монах. – Но сколь невероятно слышать такие кощунственные речи из уст настоятеля Божьего храма!
– Я говорю лишь то, что написано в моей исстрадавшейся душе… И верю, что Господь, перед которым я вскоре предстану, не осудит меня за эти искренние слова.
– Вы безнадежный и слепой мечтатель! Таким, как вы, надо проповедовать среди нищих, а не управлять землями и храмами. Вы все испортили своей чудовищной снисходительностью и преступной мягкостью.
– А вы хотели бы, чтобы я, как брат Ульфар, не прощал ни единого греха и наказывал всякого оступившегося? – с печалью в голосе обратился к нему настоятель.
– О нет, – задумчиво произнес Колен. – Мне нет дела до грехов и добродетелей. Еретики и грешники заслуживают наказания вовсе не за то, что они иначе истолковали какую-нибудь несчастную строчку из Евангелия, а потому что они разрушают здание. Здание, которые наши предшественники возводили веками, крестя варваров, захватывая земли сеньоров, борясь с бунтовщиками и вольнодумцами… И только после долгой и тяжелой борьбы великое здание Церкви засияло во всем своем победном блеске!
– Это меня и пугает, – едва слышно отозвался отец Франсуа.
– О чем вы говорите?
– Разве вы не боитесь, Колен, что огромное здание, выстроенное на несправедливостях и насилии, однажды может обрушиться на головы его создателей?