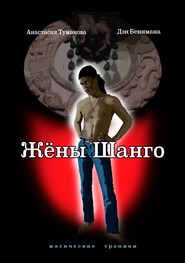По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Звезды над обрывом
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно! – слегка удивлённо подтвердил Максим. – И между прочим, очень вовремя успел. Только выволок пацана – сразу же крыша рухнула! Немного обжёгся – но это искрами, ничего серьёзного…
Нина молча зажмурилась. Светка смотрела на отчима с немым восхищением. Приходько, застывший в дверях, крякнул с непонятной интонацией.
– И вот, я подумал: лучше, наверное, сюда… Может быть, ты его знаешь?
– Максим! Я же не могу знать всех цыган на свете! Неизвестно даже, из каких он… Чаворо, конэско ту сан[27 - Сынок, из каких ты (цыган)?]?
Ответа не последовало. Наклонившись к подушке, Нина повторила вопрос.
– Да вашу же ж мать… – чуть слышно раздалось в ответ. – Умучился повторять… Я не цыган, мадам… Ни в каком месте и ни разу… Вот чтоб с места не…
Не договорив, мальчишка откинул голову. Горло его судорожно дёрнулось.
– Господи, Максим! Ну какие сейчас могут быть допросы! Он же горячий, как печка! – Нина положила ладонь на лоб пацана – и сразу же отдёрнула её. – Ужас… Фёдор! Поезжайте за врачом, нужно в первую очередь узнать – не тиф ли… Нет, я сама сначала посмотрю!
– Может, всё же в больницу? – напряжённо спросил Максим, глядя на то, как Нина, вооружившись ножницами, ловко вспарывает истлевшую рубаху мальчишки и исследует его под мышками и в сгибах локтей.
– Нет… нет, думаю, не тиф. Ничего, кроме коросты. Но врач всё равно нужен! Приходько, поезжайте к профессору Марежину, скажите – артистка Нина Молдаванская покорно просит приехать… Максим, не спорь: в больнице его просто уморят!
По лицу мужа было видно, что у него и в мыслях не было спорить. Нина продолжала командовать:
– Света, не вставай, ему у тебя удобнее! Смотри только, чтобы в самом деле вшей не наползло! Юбку выкинешь потом… Маша, дай градусник! Рубаху и всё остальное – сжечь… Дэвла, у него ожоги какие! Вот… и вот… прямо до пузырей! Фёдор, ну что же вы стоите столбом?!
– Прикажете выполнять, Максим Егорыч?
– Выполняй, Приходько, и поживей. Нина, но он такой грязный…
– Ничего не поделаешь, пока так полежит. Надо достать водки, обтереть его. Максим, сходи к Любане, у неё всегда есть. Иди-иди, она тебя до смерти боится! Всё отдаст! А керосин на кухне… Светка, да не вертись ты, ему же неудобно!
Тифа у мальчишки, к счастью, не оказалось. Профессор Марежин, которого Приходько привёз через час, тщательно обследовал беспризорника, обнаружил запущенный плеврит, коросту, коньюнктивит, чесотку («Светка, боже, отойди от него немедленно!») и несметные колонии насекомых. Выписав лекарства, профессор ещё некоторое время осведомлялся у Нины о здоровье её родственников (Марежин был страстным поклонником цыганского пения). Затем, попросив посылать за ним в случае необходимости, отбыл.
Четыре дня Мотька был совсем плох. Ожоги, которые Нина смазывала лампадным маслом бабки Бабаниной, кое-как заживали, но жар почти не падал. Мальчишка метался в бреду, мотал по подушке встрёпанной, воняющей керосином головой (вшей решительная Светка извела сразу же), бормотал сквозь оскаленные зубы страшные ругательства. По ночам Нина со старшей дочерью сторожили Мотьку посменно. Утром больного приходилось бросать на Светлану, и Нина целый день тряслась на службе, боясь того, что Мотька умрёт на руках у дочерей. Но пацан оказался живучим, как блоха. К вечеру пятого дня он, позволив залить в себя ложку лекарства, вдруг крепко уснул – и ни разу за ночь даже не пошевелился. Нина, которая всю ночь просидела возле него, опасаясь самого худшего, к утру чувствовала себя совершенно разбитой. Кое-как собравшись с силами, она протянула руку, пощупала Мотькин лоб – и вздрогнула от неожиданности. Лоб пацана был влажный от пота, но – едва тёплый. Кризис миновал.
Мотька выздоравливал быстро. Нина, продав знакомой артистке старинное гранатовое кольцо – подарок таборной бабки, купила на Болотном рынке курицу и три дня варила из неё прозрачный, свежайший, благоухающий бульон. Светка и Машка благородно отказывались его пить, и весь бульон доставался Мотьке. Тот выхлёбывал его жадно, как холодную воду в жаркий день, ел чёрный хлеб, пил чай с сахаром, хрипло, смущённо говорил: «Благодарствую, мадам, на вашем неоставлении…» – и уверенно шёл на поправку.
– Так ты в самом деле не цыган? – спросила Нина в то утро, когда первый снег, кружась за окном, ложился между сараями, липами и поленницами, покрывая петуховский двор чистейшей скатертью. Нина стояла, опершись обеими руками о подоконник, и смотрела на мельтешение белых мух. Дочери были в школе. Мотька сидел в постели, худой до прозрачности, чёрный как сапог, и аккуратно, подставив ладонь под крошки, уминал горбушку. В печке потрескивали дрова, веяло теплом. На столе дожидался горячий чайник и завёрнутые в бумагу полфунта ситного.
– Я сначала подумала, что ты боишься это сказать. Но ты же видишь, я сама – цыганка, девочки мои – тоже. Неужели ты не…
– Ну ей-богу же, нет, мадам! – уныло сказал Мотька, и было видно, что на этот вопрос он отвечал множество раз. – Я с Одессы, с Николаевского приюта! Кто меня мамане сработал – никакого понятья не имею… Может, и ваш какой-то постарался! Маманя у меня весёлая дама была, так что всё очень даже может быть…
– Так у тебя есть мать? Отчего же тогда – приют?..
– Ну так надо же было что-то шамать, когда четыре власти пилят город на части! Маманя сказала: шлёпай, Мотька, до приюта, там харчи и не стреляют, назовись сиротой. Я и пошлёпал! Мамане-то со мной тогда вовсе некогда было: как раз французы подошли, было чем заняться…
– Сколько тебе тогда было лет?
– Тю! Может, пять, а может, семь… Не вспомнить так сразу-то! Мамани я больше не видал, соседи после сказали – солдатня пьяная зарезала… Потом Гришин-Алмазов пришёл, потом я за Японцем на Петлюру увязался, потом с Петлюрой же от Котовского тикал, потом – с Котовским от Деникина… Много чего было! Год назад в Москву приехал, думал подкормиться – а тут ещё хужей, чем на Полтавщине! Ну да ничего, мы народ привычный…
– Чуть не помер, «привычный»… – проворчала Нина, чувствуя, как сжимается комок в горле.
– Мне весьма неловко, что я вас так свински обожрал, – церемонно сообщил Мотька. – Времена сейчас собачьи, и хлеба на своих-то не доищешься. Так что позвольте мой клифт, и я освобожу эти апартаменты…
– Твой «клифт» пришлось сжечь, – сообщила Нина, и Мотька тут же скис.
– Это мне будет в некотором виде затруднительно…
– …и никуда идти тебе не надо. Разве ты не видишь? – зима на улице! А ты едва-едва выбрался из плеврита.
– Мадам, – подумав, с наисерьёзнейшей рожей сказал Мотька. – Я, ей-богу же, не цыган! Вот хоть что вам на том поцелую: хоть крест, хоть красную звезду! Я ни с какого боку вам не родня. Странно, что вы супруга оставили живым, когда он притащил вам за один раз столько радости… Что характерно – вшивой, горелой и вонючей!
Нина из последних сил прятала улыбку. Мальчишка с его корявым, уморительно неправильным, изысканно-босяцким языком был невероятно забавен. И – сжималось сердце от этой чудовищной худобы, торчащих скул, провалившихся глаз, сияющих, тем не менее, непобедимой лукавой искрой.
– Вот что, вшивая радость… Перестань, во-первых, звать меня «мадам». Говори – тётя Нина. Во-вторых, ты остаёшься здесь, пока не встанешь на ноги, – а дальше будет видно. В-третьих, тебе пора спать, хватит мести языком. Проснёшься – поешь ещё: я тебе кашу на молоке сварю.
Мотька задумался. Затем недоверчиво улыбнулся. Пожал острыми плечами. Проворчал: «Каким только местом думает эта интеллигенция?..», откинулся на подушку, сунул в рот последний кусок хлеба – и через мгновение уже спал, умиротворённо посапывая, похожий с мякишем за щекой на исхудалого суслика.
Мотька остался в «петуховке»: никто против этого не возражал. Дочери Нины относились к больному очень нежно, и даже ершистая Светланка нет-нет да и подсаживалась к постели погладить Мотьку по лохматой голове. Тот, заливаясь смуглой краской, ворчал: «Светка, это буржуйские пережитки, я ж не кошка…», но было видно, что ласка ему приятна. Машка же, тогда ещё девятилетняя малявка, вообще была готова часами сидеть на половике возле кровати и слушать полные лихости и вранья рассказы Матвея о «волюшке». Нина, опасавшаяся, что её своенравные дочери не примут внезапно свалившегося им на головы беспризорника, вздыхала с облегчением. Она сама не ожидала, что ей так быстро прикипит к сердцу этот худой, ехидный, всегда ухмыляющийся пацан с невозможно цыганской физиономией. И даже мужу Нина почему-то не могла признаться в том, что Мотька напоминает ей сына, в девятнадцатом году умершего от тифа на больничной койке, в голодном ледяном Петрограде.
«Тебе нравится этот шкет? – осторожно спросил как-то Максим. – Я боялся, ты ругать меня будешь. Что, вот, приволок с улицы невесть кого… Их же сейчас пол-Москвы таких!»
«Но ты же, надеюсь, не приведёшь сюда пол-Москвы? – улыбнулась Нина. – Нас и так теперь пятеро в комнате. Бабанины уже бурчат, что я своих цыган со всего города собираю…»
«Я зайду к ним, объясню ситуацию.»
После этого «объяснения» Бабанины неделю боялись показаться на общей кухне, и больше никто из соседей вопросов насчёт «цыганёнка» не задавал.
Выздоровев, Мотька бесстрашно выскакивал во двор в обрезанных Нининых валенках, лихо колол дрова, волок их наверх, топил печь, затем хватал жестяное ведро и, громыхая им, нёсся к колодцу. Натаскав воды, ловко, с приютской ухваткой, мыл полы, чистил снегом дряхлые половики, а однажды угольным утюгом прекрасно отгладил кучу стираных рубах, до которых у Нины целую неделю не доходили руки. Только в школу определяться Мотька напрочь отказывался, уверяя, что сидеть полдня взаперти могут только круглые идиоты. Нине пришлось воззвать к мужу, – и Максима Мотька с неохотой послушался:
– Ну ладно… Если Максим Егорович так настаивают… Оно, конечно, тоска купоросная, но хоть покормят в той школе, и то хлеб!
Ученье к Мотьке не липло, хоть плачь! Светке стоило огромных усилий заставить «брата» открыть учебник и написать в тетради хоть несколько строк. Сама Светлана к тринадцати годам сильно вытянулась, постройнела, построжела, перестала задираться с уличными мальчишками и уверенно говорила, что после семилетки поступит в техникум «на учительницу». Свой педагогический талант она начала оттачивать на Мотьке:
– Ты откроешь, наконец, учебник? Что вам задано? Нет, дай сюда, я сама посмотрю… Что значит «опять ничего»? «Опять ничего» было вчера – а оказалось, что задали три задачи и восемь примеров! И ни одного ты не решил! Мне сегодня на тебя жаловалась Марья Фоминишна!
– Ой! Уй! Маты ж моя! Уже и настучала, кочерга старая! С чего?!
– С того, что ты на уроках вместо того, чтобы учиться, веселишь глупостями других!
– Должен же кто-то людям настроение поднимать…
– Настроение?! В школе учатся…
– … одни дураки!
– Ну, теперь же хоть один умный там завёлся, полегче будет! – язвила Светлана, которая тоже никогда не лезла за словом в карман. Сестринским подзатыльником она загоняла ворчащего Мотьку за стол. – Садись! Открывай! Читай, бестолочь, – от сих и до сих! И я не отойду от тебя, пока не прочтёшь!
– Вот пусть кто-нибудь сюда придёт!… Вот пусть кто-нибудь заглянет!.. И скажет, что вот это вот всё – не царская каторга с кандалами! – бурчал Мотька, с ненавистью паля глазами параграф истории. – Пусть кто-то это мне в глаза скажет – и я ему в морду плюну! И пусть потом мучается ночами – был у меня сифилис или нет…