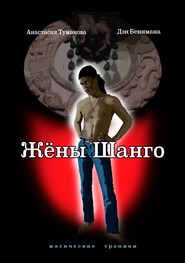По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цыганочка, ваш выход!
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да вас начальство не отпустит! – попыталась пошутить Нина.
– Вот и я того же боюсь, – без улыбки сознался Наганов. – Потому и спрашиваю вас – что случилось? И не могу ли я сделать что-то… чтобы вы захотели остаться?
– Максим Егорович, это смешно, – закрыв глаза, глухо сказала Нина. – Кто я вам, чтобы я пользовалась вашими услугами?
– Вы хорошо знаете, КТО вы мне, – негромко заметил он.
– Положим, – тяжело вздохнула Нина. – Но тут, я думаю, вы не сможете мне помочь. Это действительно семейное дело. Я не могу больше оставаться в своём доме. Просто потому, что там убили отца. Мне тяжело каждый день проходить через эту комнату. Цыганки наши все паркетины с кровью выломали… И обои отодрали… Но я же вижу, помню… Я не могу больше жить в этом доме, вот и всё. Эта причина вас устроит, товарищ Наганов?
– Только это? И всё? – нахмурился он.
– Этого мало? – пожала плечами Нина.
– Но зачем же из города уезжать? Переезжайте в другой дом.
– Каким же образом? – ядовито поинтересовалась она. – В Москве сейчас возможно найти квартиру? Хотя бы комнату? После этих ваших… уплотнений? Даже если…
– Что, если я найду для вас комнату? – перебил её Наганов. Изумлённая Нина не сразу нашлась что возразить. Затем кое-как выговорила:
– Максим Егорович, мне бы не хотелось… Что подумают люди?..
– Пусть думают что хотят! – вдруг взорвался он. – Наплевать мне, поймите, что подумают эти ваши цыгане, если им больше нечем забить себе мозги! Я не хочу, чтобы вы уезжали из Москвы! Вам нечего делать в Смоленске! Вы… вы же артистка!
– Бросьте. Кому я сейчас нужна?
– Мне, – коротко сказал Наганов. – Нина, вы никуда не поедете.
– Но с какой же стати… – начала было Нина и умолкла, понимая, что не может больше возражать этому человеку, который каждый раз с такой лёгкостью парализовал её волю. В молчании они прошли мимо окружённого беспризорниками костра. Оборванные тени предусмотрительно отодвинулись в подворотню. Позади осталась пустая, чёрная, без единого фонаря Садовая, впереди замелькали низенькие домики Живодёрки. Возле покосившейся калитки Большого дома Нина остановилась.
– Что ж, спасибо, что проводили, Максим Егорович. Спокойной ночи. – Она хотела сказать это как можно безразличнее, но голос вдруг задрожал. Наганов, впрочем, понял её смятение по-своему.
– Чёрт знает что с головой творится, – с досадой сказал он, оборачиваясь на автомобиль. – Мне надо было просто довезти вас до дома. А так вы совсем замёрзли…
– Ничего. – Нина невольно передёрнула плечами, вспомнив, как полгода назад её везли в такой же машине ночью, в дождь, под конвоем. – Я бы всё равно никогда не села бы в неё… по доброй воле.
Наганов внимательно посмотрел на неё, ничего не сказал. Нина, подумав, протянула ему руку. Он сжал её в ладонях, и Нина удивилась: какие у него, оказывается, горячие руки…
– Вы совсем замёрзли, – повторил он. – Идите скорее домой. И прошу вас, подождите несколько дней. Я попробую что-нибудь сделать. Обещайте, что не сбежите. Я… я всё равно знаю, где вас искать.
Нина невольно улыбнулась мальчишеской интонации последней фразы. И не смогла удержаться:
– Максим Егорович, я ведь больше не подследственная. И могу уехать не только в Смоленск.
– Всё же повремените пока. Обещайте мне, что подождёте.
Деваться было некуда.
– Хорошо. Считайте, что взяли меня измором, – мрачно сказала Нина, вытянув наконец пальцы из ладони Наганова. – До свидания.
Он молча наклонил голову, повернулся и, не оглядываясь, пошёл к ожидавшему его автомобилю.
В том, что Наганов сдержит данное слово, Нина ничуть не сомневалась. Так и вышло: три дня спустя во двор въехала подвода, запряжённая рыжим битюгом. Пожилой возница молча помог Нине загрузить узлы, железную кровать и гитару в футляре. Последним она положила на подводу портрет бабки, перецеловалась с ошеломлёнными цыганками и, взяв за руки укутанных дочерей, пошла вслед за подводой со двора.
Комната, которую обещал ей Наганов, оказалась в бывшем доме купцов Петуховых на Солянке. Дом был старым, скрипучим, рассохшимся, содрогающимся каждой лестницей. После революции Петуховы бесследно пропали, и крошечные, тесные комнаты домика забили новые жильцы с детьми, старухами, граммофонами, котами, примусами, корытами, смазными сапогами и сапожными колодками. В две комнаты первого этажа, рядом с кухней, вселились Охлопкины – большая и шумная семья рабочего-кустаря, невестки которого скандалили на общей кухне со свекровью, а дети дрались и катались по полу в коридоре. Бывшую столовую занимали две студентки педагогического техникума. В узкой, как пенал, спальне жил лохматый, бровастый поэт Богоборцев, похожий больше на ломового извозчика, чем на литератора, по ночам зычно оравший свои вирши на всю квартиру. Рядом с поэтом обитала прачка Маша, самогонщица и вообще «весёлая баба», у которой часто происходили шумные застолья. А в конце коридора, в парадном зале, расположилась суровая семья бывших крестьян Бабаниных, к которым постоянно приезжали деревенские родственники, о визите коих можно было догадаться по запаху прелых лаптей и навоза. В самой дальней, маленькой комнатке, прежде принадлежавшей петуховской горничной, ютилась Ида Карловна Штюрмер – высокая старуха «из бывших» с ироническим изломом выщипанных бровей и монументальным носом. Она царственно донашивала горжетку из облезлой лисы, дымила папиросой и брезгливо говорила пьяному Охлопкину: «Беспрецедентная вы свинья, мой дорогой, опять давеча заблевали весь ватерклозет!» Охлопкины страстно ненавидели «графеню», но выселить её не могли: Штюрмер давала уроки фортепианной игры, и в её ученицах числились дочери одного из наркомов. Вся эта публика зажила бурной коммуной, ругаясь на огромной кухне, выпивая после работы, таская друг у друга дрова и антрацит, отхлёбывая по ночам из чужих кастрюль и сливая керосин из примусов, табунящихся на общей плите.
Нине в этом курятнике досталась довольно большая и светлая комната с изразцовой печью и двумя окнами, выходящими во внутренний тихий двор. Комната была ещё пуста, стены топорщились вбитыми невесть зачем гвоздями, посередине высилась гора из узлов. Последней втащили железную кровать, после чего пожилой солдат вручил Нине ордер на вселение, посоветовал сразу же спуститься с бумагами в домком, козырнул и отбыл.
Председателя домкома не было на месте, но секретарь, товарищ Бершлис, меланхоличный еврей в потёртом пальто, видимо, был предупреждён о новой жиличке. Он без всякого удивления, бегло просмотрел документы и сощурился на Нину поверх старых очков.
– Гражданка Баулова – артистка?
– Бывшая, – напомнила Нина. – Ныне – машинистка «Нарстроя».
– Ну, бросьте, это ненадолго… Я вас слушал ещё в Питере незадолго до грандиозных событий… Если это, конечно, были вы. Что-то мне говорит, что артисты Советской власти ещё понадобятся. Если не уже… Товарищи чекисты очень просили за вас, и мы постарались, хотя со свободной жилплощадью такой швах, что грустно рассказывать красивой женщине…
– Я понимаю, – сухо сказала Нина, и, усмотрев что-то в выражении её лица, Бершлис убрал с лица улыбку.
– Оставляйте ваш документ, пригодится… Идите, устраивайтесь. Народ у нас боевой, так что и вы не теряйтесь. Только без членовредительства! А то третьего дня мадам Штюрмер влепила товарищу Охлопкину поленом по голове! Он, конечно, совершенно напрасно плюнул в её рояль, мадам можно понять… Но всё равно глупо делать такие вещи при её происхождении! Ежели что – обращайтесь, всегда буду рад помочь, за вас просили такие люди, такие люди…
– Я постараюсь. Спасибо, товарищ Бершлис. – Нина поспешила уйти, тем более что в открытую форточку со стороны дома давно уже слышались какие-то подозрительные звуки.
В коридоре «петуховки» тем временем гремела очередная битва за справедливость. Выбежавшие из комнат жильцы стояли вдоль стен, возбуждённо переговариваясь. Громко ревела Машенька, сидящая у стены и сжимавшая своего мишку, из живота которого торчали серые клочья ваты, а по полу катался отчаянно визжащий клубок из младшего Охлопкина и Светки. Нина вбежала как раз в ту минуту, когда коридор содрогнулся от истошного вопля, и Володька Охлопкин кубарем откатился под ноги матери, завывая и зажимая ладонью плечо.
– Укусила, паскуда! У-у-у…
– Светка, что тут?.. – тихо спросила Нина, поднимая с пола взъерошенную дочь. Светка, содрогаясь от ярости и кидая бешеные взгляды в сторону Охлопкиных, начала рассказывать.
Оставшись одни, сёстры Бауловы вышли на разведку в общий коридор и сразу же наткнулись на десятилетнего Володьку, мастерящего из обломка железной трубки и двух подшипников паровоз. Увидев новых соседок, Володька бросил своё занятие, подошёл, цыкнул зубом и, непринуждённо взяв из рук растерявшейся Машеньки старого плюшевого медведя, рванул его за лапу и голову. Из медведя посыпалась вата, Машенька заплакала, Володька заржал – и Светка рванула в атаку.
– Пусть бога благодарит, что не убила гада… Другим разом не пожалею, – по-взрослому цедила Светка сквозь зубы, вытирая кровь в углу губ.
– Да что ж это такое, люди добрые, кого это к нам домком встромляет на поселение! – вдруг раздался пронзительный визг. Нина повернулась и встретилась взглядом с мамашей Охлопкиной, выскочившей на шум из ванной с ещё красными, мокрыми, покрытыми хлопьями пены руками.
– Полюбуйтесь, православ… граждане, что это за цаца такая к нам впёрлася, по какой такой бумаге! Втроём в огромную горницу влезла, узлами своими раскорячилась, кровать у ей железная, а у меня сын с невесткою под столом спят… Да ещё и нарушает тут! Ишь поналезла со своими оглодками, жидовка бессовестная, думает, управы на неё не будет! Дитятю она мне калечить взялась, да я тебе-е-е… – Охлопкина подскочила к Нине с кулаками… и попятилась, встретив бешеный взгляд сузившихся чёрных глаз.
– Ворота припри, яхонтовая, – очень тихо сказала Нина, шагая вплотную к Охлопкиной. – Я тебе не жидовка, промахнулась ты, черносотенка! Я цыганка кровная! И ты у меня сейчас пожалеешь, что твоя мать вычистку не сделала и на помойке тебя не оставила подыхать! И если твой сучонок ещё хоть шаг к моим девкам сде-ла-ет…
Закончить фразу Нина не успела: Охлопкина с невероятной скоростью кинулась обратно в ванную и захлопнула за собой дверь. Тут же оттуда донёсся отчаянный грохот, матерный визг, и из-под двери потекла широкая, мыльная струя воды.
– Тю… Корыто навернула! – присвистнул поэт Богоборцев, поднимая ногу в огромном валенке и пропуская под ней серый пузырчатый ручеёк, помчавшийся к дверям. – Однако лихо вы, товарищ цыганка! Знакомиться-то будем? – Он протянул ещё не остывшей Нине огромную лапищу. – Я – Иван, а это – Лида и Суламифь, они из педагогического… Володька, да не верещи ты, сам виноват! Не по-пролетарски, брат, с девчонками связываться! А вы действительно цыганка и артистка? Вам, может, помочь мебеля расставить?
– Спасибо… – Нина перевела дух. – Но мне нечего расставлять. Кроме кровати, ничего нет.
Одна из девушек-студенток, смуглая, некрасивая, с узлом иссиня-чёрных волос, неуверенно покосилась на подругу и предложила:
– У нас в комнате стоит комод старых хозяев… Нам он совсем ни к чему, только место занимает, а выбрасывать всё же жалко. Хотите, перенесём к вам? У вас, я видела, столько книг… Да, Лида? Отдаём?
– Ой, да конечно! – бодро кивнула Лида. – Избавимся наконец-то от этого шифанера! Хорошо, что не сожгли на дрова! И вообще, поможем вам! Ванька, что ты встал, иди тащи комод! Архип Пахомыч, поможете? На ноги себе только не сбросьте! Детка, ты не плачь, Сула наша хорошо шить умеет, она твоего мишку заштопает вмиг! Ванька, Ванька, что ж ты, лишенец, делаешь, кого ты на пол кладёшь, это же профессор Ушинский!!! Гражданка, вам не нужен портрет? Он у нас всё время падает, когда Ванька стихи читает и по стенке кулачищем бьёт!
– Вот и я того же боюсь, – без улыбки сознался Наганов. – Потому и спрашиваю вас – что случилось? И не могу ли я сделать что-то… чтобы вы захотели остаться?
– Максим Егорович, это смешно, – закрыв глаза, глухо сказала Нина. – Кто я вам, чтобы я пользовалась вашими услугами?
– Вы хорошо знаете, КТО вы мне, – негромко заметил он.
– Положим, – тяжело вздохнула Нина. – Но тут, я думаю, вы не сможете мне помочь. Это действительно семейное дело. Я не могу больше оставаться в своём доме. Просто потому, что там убили отца. Мне тяжело каждый день проходить через эту комнату. Цыганки наши все паркетины с кровью выломали… И обои отодрали… Но я же вижу, помню… Я не могу больше жить в этом доме, вот и всё. Эта причина вас устроит, товарищ Наганов?
– Только это? И всё? – нахмурился он.
– Этого мало? – пожала плечами Нина.
– Но зачем же из города уезжать? Переезжайте в другой дом.
– Каким же образом? – ядовито поинтересовалась она. – В Москве сейчас возможно найти квартиру? Хотя бы комнату? После этих ваших… уплотнений? Даже если…
– Что, если я найду для вас комнату? – перебил её Наганов. Изумлённая Нина не сразу нашлась что возразить. Затем кое-как выговорила:
– Максим Егорович, мне бы не хотелось… Что подумают люди?..
– Пусть думают что хотят! – вдруг взорвался он. – Наплевать мне, поймите, что подумают эти ваши цыгане, если им больше нечем забить себе мозги! Я не хочу, чтобы вы уезжали из Москвы! Вам нечего делать в Смоленске! Вы… вы же артистка!
– Бросьте. Кому я сейчас нужна?
– Мне, – коротко сказал Наганов. – Нина, вы никуда не поедете.
– Но с какой же стати… – начала было Нина и умолкла, понимая, что не может больше возражать этому человеку, который каждый раз с такой лёгкостью парализовал её волю. В молчании они прошли мимо окружённого беспризорниками костра. Оборванные тени предусмотрительно отодвинулись в подворотню. Позади осталась пустая, чёрная, без единого фонаря Садовая, впереди замелькали низенькие домики Живодёрки. Возле покосившейся калитки Большого дома Нина остановилась.
– Что ж, спасибо, что проводили, Максим Егорович. Спокойной ночи. – Она хотела сказать это как можно безразличнее, но голос вдруг задрожал. Наганов, впрочем, понял её смятение по-своему.
– Чёрт знает что с головой творится, – с досадой сказал он, оборачиваясь на автомобиль. – Мне надо было просто довезти вас до дома. А так вы совсем замёрзли…
– Ничего. – Нина невольно передёрнула плечами, вспомнив, как полгода назад её везли в такой же машине ночью, в дождь, под конвоем. – Я бы всё равно никогда не села бы в неё… по доброй воле.
Наганов внимательно посмотрел на неё, ничего не сказал. Нина, подумав, протянула ему руку. Он сжал её в ладонях, и Нина удивилась: какие у него, оказывается, горячие руки…
– Вы совсем замёрзли, – повторил он. – Идите скорее домой. И прошу вас, подождите несколько дней. Я попробую что-нибудь сделать. Обещайте, что не сбежите. Я… я всё равно знаю, где вас искать.
Нина невольно улыбнулась мальчишеской интонации последней фразы. И не смогла удержаться:
– Максим Егорович, я ведь больше не подследственная. И могу уехать не только в Смоленск.
– Всё же повремените пока. Обещайте мне, что подождёте.
Деваться было некуда.
– Хорошо. Считайте, что взяли меня измором, – мрачно сказала Нина, вытянув наконец пальцы из ладони Наганова. – До свидания.
Он молча наклонил голову, повернулся и, не оглядываясь, пошёл к ожидавшему его автомобилю.
В том, что Наганов сдержит данное слово, Нина ничуть не сомневалась. Так и вышло: три дня спустя во двор въехала подвода, запряжённая рыжим битюгом. Пожилой возница молча помог Нине загрузить узлы, железную кровать и гитару в футляре. Последним она положила на подводу портрет бабки, перецеловалась с ошеломлёнными цыганками и, взяв за руки укутанных дочерей, пошла вслед за подводой со двора.
Комната, которую обещал ей Наганов, оказалась в бывшем доме купцов Петуховых на Солянке. Дом был старым, скрипучим, рассохшимся, содрогающимся каждой лестницей. После революции Петуховы бесследно пропали, и крошечные, тесные комнаты домика забили новые жильцы с детьми, старухами, граммофонами, котами, примусами, корытами, смазными сапогами и сапожными колодками. В две комнаты первого этажа, рядом с кухней, вселились Охлопкины – большая и шумная семья рабочего-кустаря, невестки которого скандалили на общей кухне со свекровью, а дети дрались и катались по полу в коридоре. Бывшую столовую занимали две студентки педагогического техникума. В узкой, как пенал, спальне жил лохматый, бровастый поэт Богоборцев, похожий больше на ломового извозчика, чем на литератора, по ночам зычно оравший свои вирши на всю квартиру. Рядом с поэтом обитала прачка Маша, самогонщица и вообще «весёлая баба», у которой часто происходили шумные застолья. А в конце коридора, в парадном зале, расположилась суровая семья бывших крестьян Бабаниных, к которым постоянно приезжали деревенские родственники, о визите коих можно было догадаться по запаху прелых лаптей и навоза. В самой дальней, маленькой комнатке, прежде принадлежавшей петуховской горничной, ютилась Ида Карловна Штюрмер – высокая старуха «из бывших» с ироническим изломом выщипанных бровей и монументальным носом. Она царственно донашивала горжетку из облезлой лисы, дымила папиросой и брезгливо говорила пьяному Охлопкину: «Беспрецедентная вы свинья, мой дорогой, опять давеча заблевали весь ватерклозет!» Охлопкины страстно ненавидели «графеню», но выселить её не могли: Штюрмер давала уроки фортепианной игры, и в её ученицах числились дочери одного из наркомов. Вся эта публика зажила бурной коммуной, ругаясь на огромной кухне, выпивая после работы, таская друг у друга дрова и антрацит, отхлёбывая по ночам из чужих кастрюль и сливая керосин из примусов, табунящихся на общей плите.
Нине в этом курятнике досталась довольно большая и светлая комната с изразцовой печью и двумя окнами, выходящими во внутренний тихий двор. Комната была ещё пуста, стены топорщились вбитыми невесть зачем гвоздями, посередине высилась гора из узлов. Последней втащили железную кровать, после чего пожилой солдат вручил Нине ордер на вселение, посоветовал сразу же спуститься с бумагами в домком, козырнул и отбыл.
Председателя домкома не было на месте, но секретарь, товарищ Бершлис, меланхоличный еврей в потёртом пальто, видимо, был предупреждён о новой жиличке. Он без всякого удивления, бегло просмотрел документы и сощурился на Нину поверх старых очков.
– Гражданка Баулова – артистка?
– Бывшая, – напомнила Нина. – Ныне – машинистка «Нарстроя».
– Ну, бросьте, это ненадолго… Я вас слушал ещё в Питере незадолго до грандиозных событий… Если это, конечно, были вы. Что-то мне говорит, что артисты Советской власти ещё понадобятся. Если не уже… Товарищи чекисты очень просили за вас, и мы постарались, хотя со свободной жилплощадью такой швах, что грустно рассказывать красивой женщине…
– Я понимаю, – сухо сказала Нина, и, усмотрев что-то в выражении её лица, Бершлис убрал с лица улыбку.
– Оставляйте ваш документ, пригодится… Идите, устраивайтесь. Народ у нас боевой, так что и вы не теряйтесь. Только без членовредительства! А то третьего дня мадам Штюрмер влепила товарищу Охлопкину поленом по голове! Он, конечно, совершенно напрасно плюнул в её рояль, мадам можно понять… Но всё равно глупо делать такие вещи при её происхождении! Ежели что – обращайтесь, всегда буду рад помочь, за вас просили такие люди, такие люди…
– Я постараюсь. Спасибо, товарищ Бершлис. – Нина поспешила уйти, тем более что в открытую форточку со стороны дома давно уже слышались какие-то подозрительные звуки.
В коридоре «петуховки» тем временем гремела очередная битва за справедливость. Выбежавшие из комнат жильцы стояли вдоль стен, возбуждённо переговариваясь. Громко ревела Машенька, сидящая у стены и сжимавшая своего мишку, из живота которого торчали серые клочья ваты, а по полу катался отчаянно визжащий клубок из младшего Охлопкина и Светки. Нина вбежала как раз в ту минуту, когда коридор содрогнулся от истошного вопля, и Володька Охлопкин кубарем откатился под ноги матери, завывая и зажимая ладонью плечо.
– Укусила, паскуда! У-у-у…
– Светка, что тут?.. – тихо спросила Нина, поднимая с пола взъерошенную дочь. Светка, содрогаясь от ярости и кидая бешеные взгляды в сторону Охлопкиных, начала рассказывать.
Оставшись одни, сёстры Бауловы вышли на разведку в общий коридор и сразу же наткнулись на десятилетнего Володьку, мастерящего из обломка железной трубки и двух подшипников паровоз. Увидев новых соседок, Володька бросил своё занятие, подошёл, цыкнул зубом и, непринуждённо взяв из рук растерявшейся Машеньки старого плюшевого медведя, рванул его за лапу и голову. Из медведя посыпалась вата, Машенька заплакала, Володька заржал – и Светка рванула в атаку.
– Пусть бога благодарит, что не убила гада… Другим разом не пожалею, – по-взрослому цедила Светка сквозь зубы, вытирая кровь в углу губ.
– Да что ж это такое, люди добрые, кого это к нам домком встромляет на поселение! – вдруг раздался пронзительный визг. Нина повернулась и встретилась взглядом с мамашей Охлопкиной, выскочившей на шум из ванной с ещё красными, мокрыми, покрытыми хлопьями пены руками.
– Полюбуйтесь, православ… граждане, что это за цаца такая к нам впёрлася, по какой такой бумаге! Втроём в огромную горницу влезла, узлами своими раскорячилась, кровать у ей железная, а у меня сын с невесткою под столом спят… Да ещё и нарушает тут! Ишь поналезла со своими оглодками, жидовка бессовестная, думает, управы на неё не будет! Дитятю она мне калечить взялась, да я тебе-е-е… – Охлопкина подскочила к Нине с кулаками… и попятилась, встретив бешеный взгляд сузившихся чёрных глаз.
– Ворота припри, яхонтовая, – очень тихо сказала Нина, шагая вплотную к Охлопкиной. – Я тебе не жидовка, промахнулась ты, черносотенка! Я цыганка кровная! И ты у меня сейчас пожалеешь, что твоя мать вычистку не сделала и на помойке тебя не оставила подыхать! И если твой сучонок ещё хоть шаг к моим девкам сде-ла-ет…
Закончить фразу Нина не успела: Охлопкина с невероятной скоростью кинулась обратно в ванную и захлопнула за собой дверь. Тут же оттуда донёсся отчаянный грохот, матерный визг, и из-под двери потекла широкая, мыльная струя воды.
– Тю… Корыто навернула! – присвистнул поэт Богоборцев, поднимая ногу в огромном валенке и пропуская под ней серый пузырчатый ручеёк, помчавшийся к дверям. – Однако лихо вы, товарищ цыганка! Знакомиться-то будем? – Он протянул ещё не остывшей Нине огромную лапищу. – Я – Иван, а это – Лида и Суламифь, они из педагогического… Володька, да не верещи ты, сам виноват! Не по-пролетарски, брат, с девчонками связываться! А вы действительно цыганка и артистка? Вам, может, помочь мебеля расставить?
– Спасибо… – Нина перевела дух. – Но мне нечего расставлять. Кроме кровати, ничего нет.
Одна из девушек-студенток, смуглая, некрасивая, с узлом иссиня-чёрных волос, неуверенно покосилась на подругу и предложила:
– У нас в комнате стоит комод старых хозяев… Нам он совсем ни к чему, только место занимает, а выбрасывать всё же жалко. Хотите, перенесём к вам? У вас, я видела, столько книг… Да, Лида? Отдаём?
– Ой, да конечно! – бодро кивнула Лида. – Избавимся наконец-то от этого шифанера! Хорошо, что не сожгли на дрова! И вообще, поможем вам! Ванька, что ты встал, иди тащи комод! Архип Пахомыч, поможете? На ноги себе только не сбросьте! Детка, ты не плачь, Сула наша хорошо шить умеет, она твоего мишку заштопает вмиг! Ванька, Ванька, что ж ты, лишенец, делаешь, кого ты на пол кладёшь, это же профессор Ушинский!!! Гражданка, вам не нужен портрет? Он у нас всё время падает, когда Ванька стихи читает и по стенке кулачищем бьёт!