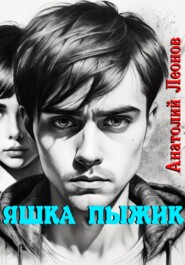По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайный гость
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не обращая внимания на весь этот перегуд снаружи, Феона присел над Гвоздевым и протянул ему кусок домотканого холста, снятый им с тына.
– Ну, теперь поговорим или мне тебя на съезжий двор тащить?
Захар сплюнул на землю кровавую слюну, взял протянутый платок и приложил к разбитому носу.
– А чего не поговорить, коль хороший человек!
Отец Феона беззлобно усмехнулся в густые, опрятно стриженные усы и охотно помог стрельцу подняться на ноги. Со спины донесся громкий топот подкованных сапог и послышались возмущенные голоса.
– Бесчинствуешь? Кто позволил? Что ты за монах такой?
Феона не спеша обернулся. Три чернослободца, один из которых был вооружен коротким бердышом, а двое остальных – угрожающего вида дубинками, со всех сторон утыканными коваными гвоздями, зашли во двор и направились прямиком к монаху.
– А сами-то вы кто, православные? – спросил он с ухмылкой.
Эта высокомерная ухмылка сильно не понравилась чернослободцу, перекидывавшему с руки на руку бердыш на коротком и толстом древке.
– Мы есть решеточные сторожа с Кисельного, – произнес мужик важно и заносчиво, – я здесь десятский!
– Как звать?
– Кличут Афанасием. Тебе зачем?
– Я Григорий Образцов, помнишь такого?
Услышав громкую фамилию, Афонька стушевался, но, настороженно оглядевшись, быстро взял себя в руки и, подбоченившись, спесиво выпятил нижнюю губу.
– Почем мне знать, что не врешь? Бумага есть?
– Нет бумаги…
– Ну тогда мы тебя самого на съезжий двор отволочем, – заорал десятский, потирая ладони.
Глаза его, вспыхнув как свечки, горели хищным огнем, не сулившим отцу Феоне ничего хорошего.
– Только сперва мы тебя сами проучим, чтобы наших мужиков не задирал.
Афонька, кивнув дружкам, перехватил свой бердыш двумя руками, точно выискивал место на теле монаха, куда было бы сподручней ударить обушком. Караульщики меж тем, поигрывая дубинками, зашли по бокам, весело перемигиваясь, точно все происходящее сильно их забавляло.
Отец Феона, оглядевшись, нехотя поднялся на ноги и устало покачал головой.
– Как же я не люблю это!
Перехватив предплечьем занесенный над ним бердыш, монах, развернувшись, заплел древком руки противника, и, схватив его за шею, резко толкнул по кругу вниз и вбок. Десятский, потеряв оружие, перевернулся в воздухе и, нелепо дрыгая ногами, рухнул оземь, сильно ударившись спиной. От удара у него перехватило дыхание. Все, что бедняга смог выдавить из себя в тот момент, был протяжный стон, полный боли и удивления.
Не останавливаясь на поверженном десятском, отец Феона следом свалил одного из караульщиков, ткнув древком в солнечное сплетение, а второго положил рядом простым шлепком ладони по лбу. Убедившись, что поле боя осталось за ним, монах отшвырнул бесполезный теперь бердыш, который, пролетев по дуге, воткнулся в землю между ног завывшего от страха решеточного.
– Григорий Федорович, прости Христа ради! Не признал!
Вразумление действием оказалось столь весомым, что Афонька мгновенно вспомнил имя знаменитого московского судьи и воеводы, в свое время наводившего трепет на весь воровской мир стольного города.
– Вот и славно, десятский.
Феона смерил Афоньку холодным, как сталь клинка, взглядом и скупо улыбнулся одними губами.
– Теперь иди. Глазунов-ротозеев в шею гони, – добавил он в спину десятскому, – путаются под ногами!
– Слушаюсь!
Афонька угодливо склонил голову и, растерянно озираясь, вышел со двора, плотно затворив за собой ворота. Во дворе остались только сам отец Феона, Захар Гвоздев с беспрерывно икающей от страха женой да четверо детишек, с дерзким любопытством подглядывавших за грозным монахом из-за приоткрытой двери подклета.
– Ну, Захар Гвоздев, рассказывай, как ты нечистого застрелил?
Скрестив руки на груди, Феона пытливо смотрел на отставного стрельца, словно одними глазами мог проникнуть в его душу.
– А чего рассказывать? – смутился Захар, потупив взор.
– Все рассказывай, что было! – улыбнулся монах и, взяв за локоть, помог стрельцу подняться на ноги.
Сообразив, что бить его сегодня, кажется, больше не будут, Захар осмелел, расправил плечи и решительно махнул рукой.
– Было! Ульянка, баба моя, аккурат после второй ночной стражи с вечери пришла, говорит, в курятнике кто-то озорует. А у меня, понимаешь, в прошлом годе хорек всю птицу за раз подушил! Ну, взял я свою пищаль, захожу в курятник, а там, Господи Иисусе! Черт! Сам маленький, черный, глаза горят, и петух мой под мышкой!
– Глаза, говоришь, горели?
– Горели! Адовым, синим огнем… Страшное дело!
– Странно! – хмыкнул под нос отец Феона. – Ладно, чего дальше было?
– Так, это… – почесал затылок Захар. – Бросился он на меня, я и пальнул со страха, не целясь, а он завыл, точно я ему яйца отстрелил, отлетел в кормушку с зерном, взбрыкнул ногами и затих.
Захар замолчал, обернулся назад и тревожно огляделся, ища глазами поддержку жены.
– Продолжай! – нетерпеливо скомандовал отец Феона, которому надоело вытягивать из стрельца каждое слово, имеющее непосредственное отношение к происшествию.
– Чего продолжать-то? – не выдержал Гвоздев. – Закрыл я дверь и убег, а когда вернулся с десятским, черта уже и след простыл! Знамо дело – нечистый!
– Это все?
– Все! Вот баба моя не даст соврать!
– Все, все… – с горячностью поддержала мужа Ульянка.
– Все? – строго переспросил монах, подозрительно прищурившись.
Не выдержав пристального взгляда отца Феоны, Захар смутился и отвел глаза в сторону.
– Захар! – воскликнула побледневшая вдруг Ульянка.
– Ну, теперь поговорим или мне тебя на съезжий двор тащить?
Захар сплюнул на землю кровавую слюну, взял протянутый платок и приложил к разбитому носу.
– А чего не поговорить, коль хороший человек!
Отец Феона беззлобно усмехнулся в густые, опрятно стриженные усы и охотно помог стрельцу подняться на ноги. Со спины донесся громкий топот подкованных сапог и послышались возмущенные голоса.
– Бесчинствуешь? Кто позволил? Что ты за монах такой?
Феона не спеша обернулся. Три чернослободца, один из которых был вооружен коротким бердышом, а двое остальных – угрожающего вида дубинками, со всех сторон утыканными коваными гвоздями, зашли во двор и направились прямиком к монаху.
– А сами-то вы кто, православные? – спросил он с ухмылкой.
Эта высокомерная ухмылка сильно не понравилась чернослободцу, перекидывавшему с руки на руку бердыш на коротком и толстом древке.
– Мы есть решеточные сторожа с Кисельного, – произнес мужик важно и заносчиво, – я здесь десятский!
– Как звать?
– Кличут Афанасием. Тебе зачем?
– Я Григорий Образцов, помнишь такого?
Услышав громкую фамилию, Афонька стушевался, но, настороженно оглядевшись, быстро взял себя в руки и, подбоченившись, спесиво выпятил нижнюю губу.
– Почем мне знать, что не врешь? Бумага есть?
– Нет бумаги…
– Ну тогда мы тебя самого на съезжий двор отволочем, – заорал десятский, потирая ладони.
Глаза его, вспыхнув как свечки, горели хищным огнем, не сулившим отцу Феоне ничего хорошего.
– Только сперва мы тебя сами проучим, чтобы наших мужиков не задирал.
Афонька, кивнув дружкам, перехватил свой бердыш двумя руками, точно выискивал место на теле монаха, куда было бы сподручней ударить обушком. Караульщики меж тем, поигрывая дубинками, зашли по бокам, весело перемигиваясь, точно все происходящее сильно их забавляло.
Отец Феона, оглядевшись, нехотя поднялся на ноги и устало покачал головой.
– Как же я не люблю это!
Перехватив предплечьем занесенный над ним бердыш, монах, развернувшись, заплел древком руки противника, и, схватив его за шею, резко толкнул по кругу вниз и вбок. Десятский, потеряв оружие, перевернулся в воздухе и, нелепо дрыгая ногами, рухнул оземь, сильно ударившись спиной. От удара у него перехватило дыхание. Все, что бедняга смог выдавить из себя в тот момент, был протяжный стон, полный боли и удивления.
Не останавливаясь на поверженном десятском, отец Феона следом свалил одного из караульщиков, ткнув древком в солнечное сплетение, а второго положил рядом простым шлепком ладони по лбу. Убедившись, что поле боя осталось за ним, монах отшвырнул бесполезный теперь бердыш, который, пролетев по дуге, воткнулся в землю между ног завывшего от страха решеточного.
– Григорий Федорович, прости Христа ради! Не признал!
Вразумление действием оказалось столь весомым, что Афонька мгновенно вспомнил имя знаменитого московского судьи и воеводы, в свое время наводившего трепет на весь воровской мир стольного города.
– Вот и славно, десятский.
Феона смерил Афоньку холодным, как сталь клинка, взглядом и скупо улыбнулся одними губами.
– Теперь иди. Глазунов-ротозеев в шею гони, – добавил он в спину десятскому, – путаются под ногами!
– Слушаюсь!
Афонька угодливо склонил голову и, растерянно озираясь, вышел со двора, плотно затворив за собой ворота. Во дворе остались только сам отец Феона, Захар Гвоздев с беспрерывно икающей от страха женой да четверо детишек, с дерзким любопытством подглядывавших за грозным монахом из-за приоткрытой двери подклета.
– Ну, Захар Гвоздев, рассказывай, как ты нечистого застрелил?
Скрестив руки на груди, Феона пытливо смотрел на отставного стрельца, словно одними глазами мог проникнуть в его душу.
– А чего рассказывать? – смутился Захар, потупив взор.
– Все рассказывай, что было! – улыбнулся монах и, взяв за локоть, помог стрельцу подняться на ноги.
Сообразив, что бить его сегодня, кажется, больше не будут, Захар осмелел, расправил плечи и решительно махнул рукой.
– Было! Ульянка, баба моя, аккурат после второй ночной стражи с вечери пришла, говорит, в курятнике кто-то озорует. А у меня, понимаешь, в прошлом годе хорек всю птицу за раз подушил! Ну, взял я свою пищаль, захожу в курятник, а там, Господи Иисусе! Черт! Сам маленький, черный, глаза горят, и петух мой под мышкой!
– Глаза, говоришь, горели?
– Горели! Адовым, синим огнем… Страшное дело!
– Странно! – хмыкнул под нос отец Феона. – Ладно, чего дальше было?
– Так, это… – почесал затылок Захар. – Бросился он на меня, я и пальнул со страха, не целясь, а он завыл, точно я ему яйца отстрелил, отлетел в кормушку с зерном, взбрыкнул ногами и затих.
Захар замолчал, обернулся назад и тревожно огляделся, ища глазами поддержку жены.
– Продолжай! – нетерпеливо скомандовал отец Феона, которому надоело вытягивать из стрельца каждое слово, имеющее непосредственное отношение к происшествию.
– Чего продолжать-то? – не выдержал Гвоздев. – Закрыл я дверь и убег, а когда вернулся с десятским, черта уже и след простыл! Знамо дело – нечистый!
– Это все?
– Все! Вот баба моя не даст соврать!
– Все, все… – с горячностью поддержала мужа Ульянка.
– Все? – строго переспросил монах, подозрительно прищурившись.
Не выдержав пристального взгляда отца Феоны, Захар смутился и отвел глаза в сторону.
– Захар! – воскликнула побледневшая вдруг Ульянка.