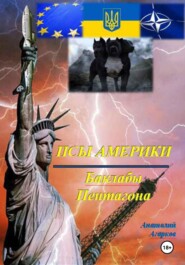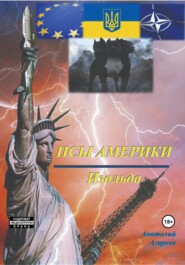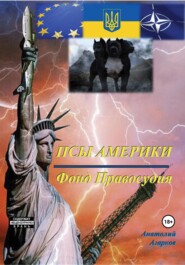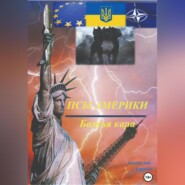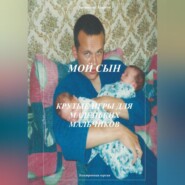По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рахит
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Домой к бабе Даше шли потемну. Отец держал меня за руку и рассказывал о своей семье. Кузьма Васильевич Агарков, отец отца и мой дедушка, погиб на фронте в неполных сорок лет, но уже имел одиннадцать детей, крепкое, самостоятельно нажитое хозяйство – двенадцать лошадей, три амбара с хлебом, дом, как игрушку. Уходя на войну, наказывал жене: «Береги последыша пуще всех – кормилец твой будет». И верно сказал – доживала свой век бабушка Наталья Тимофеевна в семье младшего сына.
– И умерла на моих руках, как раз в день твоего рождением, – отец тяжело, с надрывом вздохнул.
– А где теперь твои братья и сёстры, мои дядьки и тётки?
– Ну, одну-то ты знаешь. А остальные…
Старший в семье, Фёдор, был ровесником дедушке Егору Ивановичу, погиб на фронте где-то под Воронежем. А в Гражданскую хотел его Колчак забрать в свою армию, но Фёдор убежал и по лесам скрывался. Потом в тюрьму попал, и беляки собирались его расстрелять. Да красные их так шуганули, что не до Фёдора стало. Другой брат, Антон, умер в голодный год.
– Сестёр-то всех я и не упомню. Кто умер до моего рождения, кто после. Нюрка-то, ох и притесняла меня в детстве – противная была. А вот мужик у ней, Лёнька Саблин – золотой человек, помер от ран фронтовых, не долго после войны-то пожил. Э-эх, жизня наша…
Отец уехал, оставив меня в Петровке – уехал чуть свет, не попрощавшись. Я с ним спал на кровати в сенях, но так и не услышал, как он вставал, собирался, завтракал, заводил мотоцикл. Проснулся – отца и след простыл. Забыл я вчера пожаловаться на свою безрадостную жизнь, попроситься домой – думал, ещё успею. И не успел.
И снова потянулись скучные дни. Дед дулся на меня, на работу больше не звал, вечерами уходил к соседям в карты играть. Я к бабушке приставал:
– Расскажи сказку.
– Не знаю, родимый.
– Ну, так про старину расскажи. Как жили.
– Как жили? Хлеб жевали, песни певали, слёзы ливали…
– Баб, а почему тебя Логовной зовут?
– Имя, стало быть, у отца такое было. Да я его и не помню совсем.
– Айда, баб, в карты играть.
В «пьяницу» играли, потом в «дурака». Я жульничал бессовестно, подкидывал всё подряд. А Дарья Логовна, проигрывая, добродушно сокрушалась:
– Масть, масть, да овечка…
Поглядывала на часы – старинные, с гирькой на цепочке – и будто намекала:
– Ох-ох, уж полтринадцатого…
А я скучал.
21
Приехала из Каштака мамина младшая сестра, тётя Маруся Леонидова, с дочкой Ниной, моей сверстницей. Двоюродная сестричка мне понравилась. Счастливая, как мотылёк, резвящийся над полевыми цветами, она сверкала румяными щёчками и показывала в развесёлой улыбке все свои ровные зубы. В её глазах горел хитрый огонёк, и они искрились так, что было трудно разобрать, какого же они цвета – скорее всего это цвет озёрной воды в солнечный день.
Приехали они на телеге, забрали почту на почте и завернули к «дедам» кваску попить.
– О-о-о! Парнишка городской! Поехали с нами. Мы тебе настоящую мужицкую работу дадим, а то бабка старая тебе последние зубы выпердя.
До Каштака путь не близкий. У меня руки устали за вожжи держаться. Я их опустил, а конь сам по себе – цок да цок копытами по просёлку – дорогу знает. Пассажирки мои легли поудобней, и…..
– Вот кто-то с го-орочки спустился
На-аверно милый мой идёт….
В два голоса – заслушаешься. Я себя сразу мужиком почувствовал: степь да степь кругом – а вдруг кто нападёт. Ну, там, почту отнять, женщин обидеть. Вспомнил, как мамлюки сражались, придвинул кнут поближе – отобьюсь.
А вокруг-то – русское поле без конца и края! Трепал седые кудри ковыля проказник ветер, серебрились глянцевые блюдца солончаков, и горьковатый запах полыни оставлял во рту вкус мёда. Невидимые в небесах заливались жаворонки, и, словно эхом отражаясь, в травах вторили им скрипки кузнечиков. Солнце плавилось, и плыли облака, неспешно переворачиваясь в небе….
Хозяйство у Леонидовых большое, но какое-то неухоженное. День-деньской поперёк двора свинья лежит, здоровущая, как корова, только круглая в боках. А вокруг неё снуют поросята. Корова с телёнком, овцы, те только на ночь приходят, а днём где-то шляются. Но точно знаю – не в табуне мирском, а сами по себе. Куры везде и всюду – на дворе, в стайках, на огороде, на крыше бани. Их помёт и на крыльце, и в сенях. Но самое противное – это гуси. В Увелке гуси, как гуси – один шипит и шею вытягивает, остальные кучей отступают. Им покажешь пальчиками ножницы, и они боятся. А эти, будто бабой-ягой воспитаны – бросаются всем стадом и сразу щипаться. Они когда первый раз на меня гурьбой кинулись, я так испугался, что «мама!» закричал и на крыльцо через две ступеньки влетел. Ладно, никто не видел, а то скажут, хорош мамлюк – гусей боится. Решил в долгу не оставаться – набрал камней и стал к ним, пасущимся на лужайке, подкрадываться. Полз через лопухи, что у плетня, смотрю – яйцо куриное. Про гусей забыл и к тётке побежал.
Мария Егоровна сокрушается:
– Черти их узяли – кладутся, где хотят. Ты, Толя, пошукай-ка по усадьбе, можа ещё найдёшь.
На два дня увлекло это новое дело. Я взбирался на плоскую крышу бани и, как Следопыт из книжки Филимона Купера, подмечал места, куда в одиночку ходят куры. Расчёт мой был верен – сами они указали свои потайные гнёзда. Яиц я набрал – видимо-невидимо. Умел бы считать – похвастался. Хозяин дома Николай Дмитрич меня похвалил:
– Вот что значит, пацан. Мать, родишь мне сына? А то я тебя, наверное, выгоню.
– И-и-и…. выгоняла, – Мария Егоровна добродушно махнула рукой.
Семья у них была дружная.
Сестра Нина как-то вечером позвала меня в гости к родне. Мальчишка, наш сверстник, скакал на одной ноге, строил рожи и казал язык кому-то в раскрытое окно, из которого пузырилась белая занавеска:
– Тётя достань воробушка. Тётя достань…
Наш визит отвлёк его от этого бестолкового занятия, хотя мы сами не показались ему достойными внимания. Он стал собирать у окна неустойчивое сооружение из трёхного стула, дырявого ящика и ещё какого-то хлама. Рискуя упасть, взобрался на него и сунул руку за наличник. Увидев там солому и перья, а также беспокойных воробьёв на крыше дома, я догадался о цели его хлопот.
Из дома вышла красивая девушка лет восемнадцати:
– Серёжка, уши оборву.
Мальчишка лишь голову повернул – неустойчивое сооружение рассыпалось под его ногами, и он, чтобы не упасть, повис на ставне, дрыгая ногами. Прыгать вниз боялся.
– Валь, сними.
– Я штаны с тебя сейчас сниму.
Девушка осторожно двумя пальцами сорвала стебелёк крапивы и сунула брату, оттянув поясок штанов.
– Дура-а-а-а! – отчаянно завопил мальчишка и отпустил ставню.
Валя подхватила его, падающего, и тем же замахом перебросила через плетень.
– Сунься ещё к воробьям.
Придерживая штаны обеими руками, Серёжка убежал по улице без оглядки.
– А это чей такой мальчик? – она взяла меня за руки и присела на корточки так, что её смуглые полные колени упёрлись в мой живот.