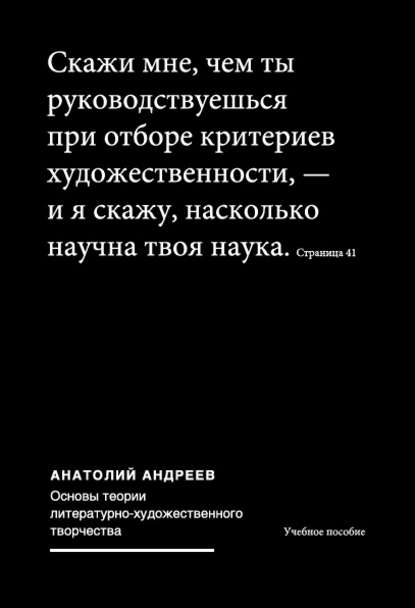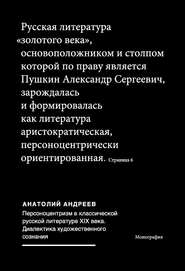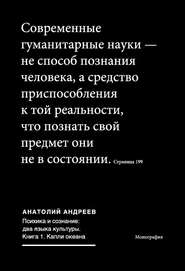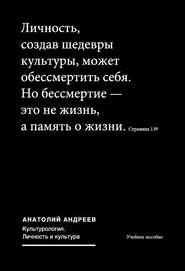По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Основы теории литературно-художественного творчества
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно…
III
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут. (…)
Приведенный отрывок («Зима!.. Крестьянин торжествуя…») изучается в школе, в пятом классе, в разделе «Писатели о природе» под рубрикой «Стихотворения русских поэтов XIX века о природе», наряду со стихотворениями Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова (к которым по праву можно присовокупить стихотворения Вяземского, Баратынского). Фрагмент романа изымается из сложнейшего семантического контекста, который способен уяснить себе далеко не каждый взрослый (роман до сих пор в должной мере не понят и не оценен «прогрессивным человечеством», не говоря уже о средней школе) и превращается в «пейзажную лирику», которая, в принципе, понятна и ребенку.
Пушкина интересует не природа, а природа человека – не натура, а натура, становящаяся культурой. В школе же изучается не отрывок из романа «Евгений Онегин», не пушкинский художественный текст, а некий совершенно условный «веселый» «текст» про крестьянина и лошадку, мальчика и жучку, напрочь лишенный философской нагрузки, собственно, и делающей этот текст высокохудожественным. Парадокс, однако, заключается в том, что, убрав из «текста» все пушкинское, все «лишнее» (информация о «лишних людях» до сих пор воспринимается как лишняя), мы получаем нечто «выразительное о зиме», вполне пригодное для изучения в школе. Формально автором текста, обладающего эстетическим измерением, является великий А.С. Пушкин. Таким образом, социальная и эстетическая нагрузка текста становятся важнее художественно-философской. Налицо отличительная особенность гуманитарных наук: не замечать главного.
Природа, «низкая природа», описанная столь поэтически, если не возвышенно (роман в стихах предоставляет такую уникальную возможность), станет, в конце концов, для мыслящего, и потому сторонящегося «низких» проявлений природы Онегина («Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей»: мыслить – значит, к сожалению, презирать), необходимым компонентом счастья, войдет в состав жизнеспособного типа духовности. Мыслить – значит, к счастью, не презирать то, что, казалось бы, заслуживает презрения. Таков многомерный симфонический концептуальный контрапункт отрывка «про жучку». Обратим внимание: сначала лошадка везет крестьянина, а потом мальчик, «себя в коня преобразив», – собачку. Люди и животные запросто меняются местами, без проблем «понимая» друг друга. Человек, простой, нерассуждающий человек не выделился из природы, он весьма напоминает «братьев своих меньших» – и в этом есть своя прелесть, эти «низкие» радости (крестьянин «торжествует», шалуну-мальчику «и больно, и смешно») тоже возвышают человека. Человек устроен сложнее, чем думалось на тот момент Онегину. Он, человек, не раскладывается на мысль и чувство, на высокую культуру и низкую натуру. Он един. Ему и больно, и смешно – и при этом он способен мыслить.
В этом фрагменте повествователь противостоит Онегину («Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной») – человеку редкой духовной породы, имя которой личность, человеку, который мыслил настолько глубоко, что, наконец, перестал унижаться до презрения. Мыслящий Онегин оказался в состоянии дойти до той степени зрелого ума (разума), с которой начинается мудрость: он влюбился, разрешил себе «торжествовать», открыто проявлять чувства. В этом контексте противостоять Онегину – значит, в конце произведения пожать руку главному герою, «приятелю младому», именем которого назван роман в стихах.
Для Онегина, пребывающего на той стадии активной духовной эволюции, на которой он находился в начале Главы пятой, для героя, отвергшего чувства Татьяны (любовь, что ни говори, – это в значительной степени проявление «низкой природы»), для «чудака», который вскоре убьет своего друга-поэта на дуэли (поэт, что ни говори, – это культ чувств в ущерб культу мысли, то есть все тот же диктат все той же «натуры»), – для Евгения поэтическая сторона «низкой природы» была пока что роковым образом недоступна. Татьяна, кстати, «С ее холодною красою Любила русскую зиму», повествователь – тоже; если уж на то пошло, все люди любят и ценят красу природы. Онегин же скучал – и зимой, и летом (вспомним: «Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок»). Любовь, природа, поэзия, чувства, в том числе (и прежде всего) собственные чувства – все это проявления натуры, которая, с точки зрения незрелой культуры, с позиций «мыслящего» интеллекта (некоего абстрактно-теоретического, логического расклада), заслуживает презрения. Натура как «прелестная» составляющая культуры – это уже задачка не для интеллекта, а для разума, «задачка», с которой Онегин в конечном счете справился. Те же, кто не равнодушен к прелестям «пейзажной лирики», кто в восторге от проказ мальчика и его жучки, как правило, Онегина не слишком жалуют. Разве это не смешно?
Кроме того, «предостерегая» от одномерности восприятия собственно поэтического, не романно-поэтического, Пушкин продолжает в шутливом тоне (отсылая читателя к стихам «другого поэта», Вяземского, и к «певцу финляндки» Баратынскому – к поэтам, коллегам Ленского по «цеху задорному»):
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покаместь, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!
Скрытый смысл шутки в том, что на поэтически описанную зиму в контексте романа нельзя смотреть как на законченное стихотворение (автор «бороться не намерен» с поэтами); это не просто описание зимы, а описание зимы повествователем, оппонирующим Онегину (которого он, тем не менее, восхищенно «поёт»): дьявольская разница. Это поэтический намек, понятный лишь принципиально не поэтически (а эпически) устроенному сознанию. Ау, читатель, «друг»!
Таково философское содержание пушкинского текста в целом и, в частности, того «отрывка», который в качестве образца «пейзажной лирики» представлен пятиклассникам.
4
Вот шутка иного рода, где литературные аллюзии также присутствуют, однако они выполняют совершенно другую функцию (последняя, LV строфа предпоследней, VII главы).
Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою (она завоевала сердце «важного генерала» – А.А.)
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да, кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
«Хоть поздно, а вступленье есть» – это, конечно, пародийное обыгрывание поэтической нормативности классицизма – той нормативности, которая заставляет трактовать человека как свод условных добродетелей или пороков; узор и кладезь таких добродетелей, увы, Татьяна Ларина (ларец!), «в стороне» от которой – опять же, увы, – пролегает магистральное русло романа.
А теперь представим себе, что все, выделенное авторским курсивом, – это действительно вступление. Поместим его в начало романа – скажем, вслед за первым вступлением (посвящением П.А. Плетнёву «Не мысля гордый свет забавить»). В таком случае функция второго, «замаскированного» вступления меняет свой вектор на противоположный (фокус, трюк – лучше сказать, шутка): это не столько «отдание чести классицизму», сколько в самом что ни на есть реалистическом ключе продолжение диалога с вдумчивым читателем, для которого все шутки – культурный код, культурный язык, но вовсе не забава. Перед последней, восьмой, главой автор «шутливо» напоминает искушенному читателю (дав понять, что сам постоянно держит это в голове: «обуза»!): не питайте иллюзий, не блуждайте: главный герой моего романа – противоречивый отнюдь не в духе одномерного классицизма, и потому по-человечески содержательный Евгений Онегин (но никак не статичная, и потому по-женски симпатичная, Татьяна), да, да, тот самый «неисправленный чудак», а не «мой верный идеал», как могло бы показаться. Где тут шутки?
До слез не смешно.
5
И под конец совсем уж не смешное, к чему привели, однако, шуточки автора.
Отношения Онегина и Татьяны – это языком искусства представленная версия сосуществования культуры и натуры, в образах воплощенная попытка культурного существа, мужчины, жить в любви и согласии с женщиной, жить одновременно по законам и культуры, и натуры, не унижаясь при этом до отрицания последних, но и не скрывая, что культура, будучи высшей духовно-информационной инстанцией, вовсе не собирается играть в прятки с натурой.
Пушкин показывает: умный мужчина должен дозреть до любви, тонкая женщина раскрывает свою тонкость в любви. Но это отнюдь не означает, что любовь непременно станет способом их существования (хотя, конечно, помогает им стать теми, кем они способны стать).
Мужчина и женщина не только тянутся, притягиваются друг к другу – но и отталкиваются друг от друга, демонстрируя невозможность слияния субъектов разной информационной природы: натура берет свое, а культура противостоит натуре. Непреодолимое притяжение и одновременное взаимоотторжение: не смешно? В этой «шутке» – голая правда чувств, «честно» обслуживающих императивы натуры, и умных чувств (тоска, отчаяние, боль, разочарование), появившихся в результате функционирования сознания. И смех, и грех.
Вот почему глубокий драматизм, граничащий с трагизмом (для краткости будем называть этот симбиоз трагизмом: это не совсем верно, но, надеюсь, более понятно), неизбежный трагизм в любви становится наиболее адекватной и впечатляющей формой сосуществования натуры и культуры. Есть, конечно, и иные формы; например, вариант тотального подчинения женского начала – мужскому (любовь как составляющая по-своему гармонических героических отношений), или мужского – женскому (своего рода комическая гармония). Однако свободное волеизъявление мужского (культурного) и женского (природного) начал неизбежно приводят не только к глубине и высшей гармонии, но и к трагизму. Похоже, отменить этот закон не представляется возможным.
Закон любви становится одним из проявлений универсального закона сохранения информации.
Можно сколько угодно настаивать на том, что любовь, дескать, это чудо из чудес и вечная загадка, практически – тайна величайшая, и умом ее не понять; что невозможно алгеброй поверить чувства, что логика чувств неподвластна никаким законам, несоизмерима с понятием «познание». Аргументов из арсенала формальной логики Татьяны – не счесть.
Однако и на стороне Онегина есть неотразимый аргумент: если бы в любви невозможно было обнаружить закон, жить было бы по-настоящему скучно.
А так – жить можно.
Вот какого порядка история про мужчину и женщину рассказана нам автором. Тут уже не сила чувств впечатляет, как, скажем в «Ромео и Джульетте», пьесе ощущений, а обнаруженная закономерность несовпадения чувств зрелого мужчины (личности) и зрелой женщины (человека, неспособного стать личностью). В романе нет проблемы силы чувств, проблемы контроля над страстью; это роман о человеке, в котором проснулась личность, роман о романе натуры и культуры.
Таким образом, любовь – это всегда испытание, всегда культурный вызов: жизнеспособность любви зависит от того, найдена ли гармония между чувством и умом. Если найдена, увы, тут уже рукой подать до трагизма, чреватого комизмом. Сам роман, согласимся с повествователем, есть не что иное, как «Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет». Любовь должна стать способом реализации (проявления) личности, в противном случае она неизбежно превратится в способ деградации личности. Союз мужчины и женщины вполне может существовать и без любви («я другому отдана; Я буду век ему верна»: Татьяна, созданная для любви, вовсе не собирается без любви умирать); присутствие любви в отношениях становится фактором духовнообразующим – пока что, увы, факультативным для людей.
В романах, подобных «Евгению Онегину», несчастная концовка становится вариантом трагически счастливой комбинации (ведь смешно же, если разобраться), а счастливая концовка выглядела бы откатом на позиции доличностные (что, согласимся, смешно вдвойне). Цена несчастной (счастливой) концовки в культурном смысле очень высока.
Итак, культурно содержательны лишь отношения умного мужчины (субъекта сознания) и тонко чувствующей женщины (субъекта высокоорганизованной психики); все остальные отношения – это наивные попытки завуалировать главные отношения, отношения сознания и психики. А отношения стремящихся навстречу друг другу «ума» и «чувства» – всегда смешны, как и все то, что обречено на очевидный провал; однако при всей нелепости благородного побуждения «а давайте совмещать несовместимое! давайте жить дружно, стремиться к счастью!» в отношениях этих нет ни капли смешного: это форма существования трагического. Именно так. Само по себе трагическое непременно включает в себя момент иронии. Получается: тот, кто не делает смешной, обреченной на неудачу попытки, тот попросту не живет. Тот самый смех и грех: смеяться грешно, а не смеяться – глупо.
Вот почему шутки являются оборотной, комической стороной трагического: и там, и там с экзистенциальным скрипом происходит сочетание несочетаемого, трагикомедия (современная форма трагедии) становится эстетическим модусом «единства противоположностей» – собственно, художественной диалектикой во плоти. Шутка становится симптомом присутствия диалектики в художественной ткани.
Вот почему шутливый тон как форма существования невозможного как бы самим фактом своего присутствия в тексте «доказывает», внушает надежду, что мужчина и женщина могут быть вместе, должны быть вместе – именно потому, что это невозможно. Шутливый прием нагружен философией до такой степени, что смешного в романе практически нет ничего. Смешно, не правда ли?
В тулупе, красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно, и смешно,
А мать грозит ему в окно…
III
Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут. (…)
Приведенный отрывок («Зима!.. Крестьянин торжествуя…») изучается в школе, в пятом классе, в разделе «Писатели о природе» под рубрикой «Стихотворения русских поэтов XIX века о природе», наряду со стихотворениями Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова (к которым по праву можно присовокупить стихотворения Вяземского, Баратынского). Фрагмент романа изымается из сложнейшего семантического контекста, который способен уяснить себе далеко не каждый взрослый (роман до сих пор в должной мере не понят и не оценен «прогрессивным человечеством», не говоря уже о средней школе) и превращается в «пейзажную лирику», которая, в принципе, понятна и ребенку.
Пушкина интересует не природа, а природа человека – не натура, а натура, становящаяся культурой. В школе же изучается не отрывок из романа «Евгений Онегин», не пушкинский художественный текст, а некий совершенно условный «веселый» «текст» про крестьянина и лошадку, мальчика и жучку, напрочь лишенный философской нагрузки, собственно, и делающей этот текст высокохудожественным. Парадокс, однако, заключается в том, что, убрав из «текста» все пушкинское, все «лишнее» (информация о «лишних людях» до сих пор воспринимается как лишняя), мы получаем нечто «выразительное о зиме», вполне пригодное для изучения в школе. Формально автором текста, обладающего эстетическим измерением, является великий А.С. Пушкин. Таким образом, социальная и эстетическая нагрузка текста становятся важнее художественно-философской. Налицо отличительная особенность гуманитарных наук: не замечать главного.
Природа, «низкая природа», описанная столь поэтически, если не возвышенно (роман в стихах предоставляет такую уникальную возможность), станет, в конце концов, для мыслящего, и потому сторонящегося «низких» проявлений природы Онегина («Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей»: мыслить – значит, к сожалению, презирать), необходимым компонентом счастья, войдет в состав жизнеспособного типа духовности. Мыслить – значит, к счастью, не презирать то, что, казалось бы, заслуживает презрения. Таков многомерный симфонический концептуальный контрапункт отрывка «про жучку». Обратим внимание: сначала лошадка везет крестьянина, а потом мальчик, «себя в коня преобразив», – собачку. Люди и животные запросто меняются местами, без проблем «понимая» друг друга. Человек, простой, нерассуждающий человек не выделился из природы, он весьма напоминает «братьев своих меньших» – и в этом есть своя прелесть, эти «низкие» радости (крестьянин «торжествует», шалуну-мальчику «и больно, и смешно») тоже возвышают человека. Человек устроен сложнее, чем думалось на тот момент Онегину. Он, человек, не раскладывается на мысль и чувство, на высокую культуру и низкую натуру. Он един. Ему и больно, и смешно – и при этом он способен мыслить.
В этом фрагменте повествователь противостоит Онегину («Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной») – человеку редкой духовной породы, имя которой личность, человеку, который мыслил настолько глубоко, что, наконец, перестал унижаться до презрения. Мыслящий Онегин оказался в состоянии дойти до той степени зрелого ума (разума), с которой начинается мудрость: он влюбился, разрешил себе «торжествовать», открыто проявлять чувства. В этом контексте противостоять Онегину – значит, в конце произведения пожать руку главному герою, «приятелю младому», именем которого назван роман в стихах.
Для Онегина, пребывающего на той стадии активной духовной эволюции, на которой он находился в начале Главы пятой, для героя, отвергшего чувства Татьяны (любовь, что ни говори, – это в значительной степени проявление «низкой природы»), для «чудака», который вскоре убьет своего друга-поэта на дуэли (поэт, что ни говори, – это культ чувств в ущерб культу мысли, то есть все тот же диктат все той же «натуры»), – для Евгения поэтическая сторона «низкой природы» была пока что роковым образом недоступна. Татьяна, кстати, «С ее холодною красою Любила русскую зиму», повествователь – тоже; если уж на то пошло, все люди любят и ценят красу природы. Онегин же скучал – и зимой, и летом (вспомним: «Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок»). Любовь, природа, поэзия, чувства, в том числе (и прежде всего) собственные чувства – все это проявления натуры, которая, с точки зрения незрелой культуры, с позиций «мыслящего» интеллекта (некоего абстрактно-теоретического, логического расклада), заслуживает презрения. Натура как «прелестная» составляющая культуры – это уже задачка не для интеллекта, а для разума, «задачка», с которой Онегин в конечном счете справился. Те же, кто не равнодушен к прелестям «пейзажной лирики», кто в восторге от проказ мальчика и его жучки, как правило, Онегина не слишком жалуют. Разве это не смешно?
Кроме того, «предостерегая» от одномерности восприятия собственно поэтического, не романно-поэтического, Пушкин продолжает в шутливом тоне (отсылая читателя к стихам «другого поэта», Вяземского, и к «певцу финляндки» Баратынскому – к поэтам, коллегам Ленского по «цеху задорному»):
Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покаместь, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!
Скрытый смысл шутки в том, что на поэтически описанную зиму в контексте романа нельзя смотреть как на законченное стихотворение (автор «бороться не намерен» с поэтами); это не просто описание зимы, а описание зимы повествователем, оппонирующим Онегину (которого он, тем не менее, восхищенно «поёт»): дьявольская разница. Это поэтический намек, понятный лишь принципиально не поэтически (а эпически) устроенному сознанию. Ау, читатель, «друг»!
Таково философское содержание пушкинского текста в целом и, в частности, того «отрывка», который в качестве образца «пейзажной лирики» представлен пятиклассникам.
4
Вот шутка иного рода, где литературные аллюзии также присутствуют, однако они выполняют совершенно другую функцию (последняя, LV строфа предпоследней, VII главы).
Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою (она завоевала сердце «важного генерала» – А.А.)
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
Да, кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
«Хоть поздно, а вступленье есть» – это, конечно, пародийное обыгрывание поэтической нормативности классицизма – той нормативности, которая заставляет трактовать человека как свод условных добродетелей или пороков; узор и кладезь таких добродетелей, увы, Татьяна Ларина (ларец!), «в стороне» от которой – опять же, увы, – пролегает магистральное русло романа.
А теперь представим себе, что все, выделенное авторским курсивом, – это действительно вступление. Поместим его в начало романа – скажем, вслед за первым вступлением (посвящением П.А. Плетнёву «Не мысля гордый свет забавить»). В таком случае функция второго, «замаскированного» вступления меняет свой вектор на противоположный (фокус, трюк – лучше сказать, шутка): это не столько «отдание чести классицизму», сколько в самом что ни на есть реалистическом ключе продолжение диалога с вдумчивым читателем, для которого все шутки – культурный код, культурный язык, но вовсе не забава. Перед последней, восьмой, главой автор «шутливо» напоминает искушенному читателю (дав понять, что сам постоянно держит это в голове: «обуза»!): не питайте иллюзий, не блуждайте: главный герой моего романа – противоречивый отнюдь не в духе одномерного классицизма, и потому по-человечески содержательный Евгений Онегин (но никак не статичная, и потому по-женски симпатичная, Татьяна), да, да, тот самый «неисправленный чудак», а не «мой верный идеал», как могло бы показаться. Где тут шутки?
До слез не смешно.
5
И под конец совсем уж не смешное, к чему привели, однако, шуточки автора.
Отношения Онегина и Татьяны – это языком искусства представленная версия сосуществования культуры и натуры, в образах воплощенная попытка культурного существа, мужчины, жить в любви и согласии с женщиной, жить одновременно по законам и культуры, и натуры, не унижаясь при этом до отрицания последних, но и не скрывая, что культура, будучи высшей духовно-информационной инстанцией, вовсе не собирается играть в прятки с натурой.
Пушкин показывает: умный мужчина должен дозреть до любви, тонкая женщина раскрывает свою тонкость в любви. Но это отнюдь не означает, что любовь непременно станет способом их существования (хотя, конечно, помогает им стать теми, кем они способны стать).
Мужчина и женщина не только тянутся, притягиваются друг к другу – но и отталкиваются друг от друга, демонстрируя невозможность слияния субъектов разной информационной природы: натура берет свое, а культура противостоит натуре. Непреодолимое притяжение и одновременное взаимоотторжение: не смешно? В этой «шутке» – голая правда чувств, «честно» обслуживающих императивы натуры, и умных чувств (тоска, отчаяние, боль, разочарование), появившихся в результате функционирования сознания. И смех, и грех.
Вот почему глубокий драматизм, граничащий с трагизмом (для краткости будем называть этот симбиоз трагизмом: это не совсем верно, но, надеюсь, более понятно), неизбежный трагизм в любви становится наиболее адекватной и впечатляющей формой сосуществования натуры и культуры. Есть, конечно, и иные формы; например, вариант тотального подчинения женского начала – мужскому (любовь как составляющая по-своему гармонических героических отношений), или мужского – женскому (своего рода комическая гармония). Однако свободное волеизъявление мужского (культурного) и женского (природного) начал неизбежно приводят не только к глубине и высшей гармонии, но и к трагизму. Похоже, отменить этот закон не представляется возможным.
Закон любви становится одним из проявлений универсального закона сохранения информации.
Можно сколько угодно настаивать на том, что любовь, дескать, это чудо из чудес и вечная загадка, практически – тайна величайшая, и умом ее не понять; что невозможно алгеброй поверить чувства, что логика чувств неподвластна никаким законам, несоизмерима с понятием «познание». Аргументов из арсенала формальной логики Татьяны – не счесть.
Однако и на стороне Онегина есть неотразимый аргумент: если бы в любви невозможно было обнаружить закон, жить было бы по-настоящему скучно.
А так – жить можно.
Вот какого порядка история про мужчину и женщину рассказана нам автором. Тут уже не сила чувств впечатляет, как, скажем в «Ромео и Джульетте», пьесе ощущений, а обнаруженная закономерность несовпадения чувств зрелого мужчины (личности) и зрелой женщины (человека, неспособного стать личностью). В романе нет проблемы силы чувств, проблемы контроля над страстью; это роман о человеке, в котором проснулась личность, роман о романе натуры и культуры.
Таким образом, любовь – это всегда испытание, всегда культурный вызов: жизнеспособность любви зависит от того, найдена ли гармония между чувством и умом. Если найдена, увы, тут уже рукой подать до трагизма, чреватого комизмом. Сам роман, согласимся с повествователем, есть не что иное, как «Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет». Любовь должна стать способом реализации (проявления) личности, в противном случае она неизбежно превратится в способ деградации личности. Союз мужчины и женщины вполне может существовать и без любви («я другому отдана; Я буду век ему верна»: Татьяна, созданная для любви, вовсе не собирается без любви умирать); присутствие любви в отношениях становится фактором духовнообразующим – пока что, увы, факультативным для людей.
В романах, подобных «Евгению Онегину», несчастная концовка становится вариантом трагически счастливой комбинации (ведь смешно же, если разобраться), а счастливая концовка выглядела бы откатом на позиции доличностные (что, согласимся, смешно вдвойне). Цена несчастной (счастливой) концовки в культурном смысле очень высока.
Итак, культурно содержательны лишь отношения умного мужчины (субъекта сознания) и тонко чувствующей женщины (субъекта высокоорганизованной психики); все остальные отношения – это наивные попытки завуалировать главные отношения, отношения сознания и психики. А отношения стремящихся навстречу друг другу «ума» и «чувства» – всегда смешны, как и все то, что обречено на очевидный провал; однако при всей нелепости благородного побуждения «а давайте совмещать несовместимое! давайте жить дружно, стремиться к счастью!» в отношениях этих нет ни капли смешного: это форма существования трагического. Именно так. Само по себе трагическое непременно включает в себя момент иронии. Получается: тот, кто не делает смешной, обреченной на неудачу попытки, тот попросту не живет. Тот самый смех и грех: смеяться грешно, а не смеяться – глупо.
Вот почему шутки являются оборотной, комической стороной трагического: и там, и там с экзистенциальным скрипом происходит сочетание несочетаемого, трагикомедия (современная форма трагедии) становится эстетическим модусом «единства противоположностей» – собственно, художественной диалектикой во плоти. Шутка становится симптомом присутствия диалектики в художественной ткани.
Вот почему шутливый тон как форма существования невозможного как бы самим фактом своего присутствия в тексте «доказывает», внушает надежду, что мужчина и женщина могут быть вместе, должны быть вместе – именно потому, что это невозможно. Шутливый прием нагружен философией до такой степени, что смешного в романе практически нет ничего. Смешно, не правда ли?
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0