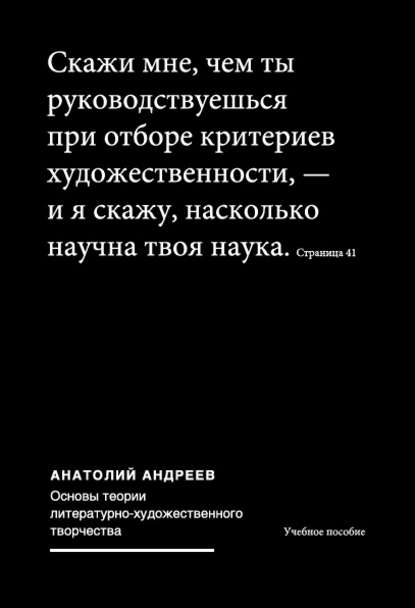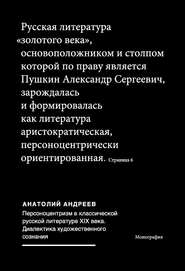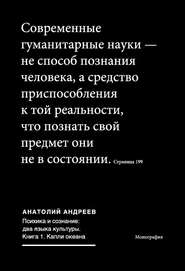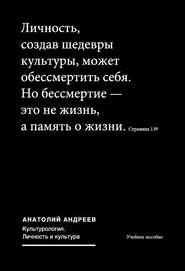По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Основы теории литературно-художественного творчества
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таким образом, мы видим, что в шутках, ставших поэтической тканью романа в стихах, меньше всего шуточного. Зубоскальство убого смешно тогда, когда оно глупо, одномерно (для тех, кто не понимает; для умного человека появляется повод горько посмеяться над теми, кто никогда не смеется последним); если же шутка серьезна, то за смехом всегда стоят «невидимые миру» слезы. Хочешь говорить о серьезном – говори смешно, иначе вся серьезность станет напыщенной, смешной, культурно бессодержательной. Именно смешное наиболее адекватно серьезному. Серьезная шутка – это по-настоящему не смешно: в этом и соль шутки, над которой хочется смеяться всегда.
Именно такие шутки стали способом подачи «громадного» философского материала, в чем и заключается одна из особенностей «воздушного» стиля «Евгения Онегина». Весь роман, собственно, состоит из подобных шуток, реплик, от строфы к строфе превращаясь в одну божественную шутку по поводу законов сочетания духа, души и тела. Доступен ли такой роман «простым людям»?
Это, конечно, шутливая постановка вопроса. Роман доступен тем, кто способен понимать шутки.
6
А теперь зададимся вопросом: каков художественно-эстетический механизм шутки, понимаемой не только как «противоречивый», диалектический «инструмент мысли», но и как вариант синтетического «пафоса», как вариант мировоззренческой матрицы?
Почему именно шутка становится в информационном отношении максимально насыщенной единицей, максимально содержательным моментом целого?
Для ответа на этот вопрос необходимо хотя бы бегло, так сказать, в рабочем порядке, обратиться к теории пафоса. Теория эта, рассмотренная нами как момент если не универсальной, то «генеральной» литературной теории (см. Андреев А.Н. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество. В двух частях. Часть 1. Теория литературно-художественного произведения. – Минск, БГУ, 2004.), позволяет, во-первых, поставить вопрос именно в такой плоскости, в которой он поставлен, и, во-вторых, искать ответ именно в контексте пафосной стратегии произведения.
Если согласиться с тем, что в истории культуры существуют, по большому счету, два идеала личности, тяготеющих к двум типам гармонии, социоцентрическому и персоноцентрическому, то идеалы эти легко принимают параметры духовно-эстетической парадигмы, которая может быть представлена в виде двух триад. Первая, социоцентрическая: сатира – героика – трагизм; вторая, персоноцентрическая: юмор – идиллия – драматизм.
Из этого следует, что, с одной стороны, сатира содержит в себе все содержательные признаки героического и трагического (серьезного, не шутливого), а с другой – и трагизм, и героика при всей своей принципиальной «неулыбчивости» предрасположены к игровому, сатирическо-ироническому взгляду на мир. Именно поэтому и героика, и трагизм адекватно (всесторонне, целостно) выражаются посредством комического. Именно так: начало сатирическое является имманентным признаком начала героико-трагического.
То же самое следует сказать и в отношении юмора как вида пафоса, который содержит в себе все признаки идиллического и драматического (опять же – серьезного, фундаментально-концептуального), а с другой – и драматизм, и идиллия при всей своей научности и системности принципиально не отгорожены от игрового, юмористическо-иронического взгляда на мир. Начало юмористическое является имманентным признаком начала идиллико-драматического.
В широком смысле начало комическое (шутливое) не существует без героического и трагико-драматического (серьёзного).
Вот почему, затронув юмор, мы вынужденно касаемся всей персоноцентрической парадигмы (и отчасти, разумеется, парадигмы социоцентрической, которые не изолированы друг от друга). То же самое, с соответствующей содержательной поправкой, можно сказать и по поводу сатиры: сатирический взгляд на вещи является не целостным и самодостаточным мировоззренческим отношением, а моментом предельно серьезной социоцентрической идеологии. С другой стороны, «чистая героика» – это наивно, и потому, увы, грустно и смешно; то, что начинается как героика, не может не продолжаться как сатира и трагизм, ибо: сатира, героика и трагизм – это модусы социоцентрического отношения. Содержанием комического (сатиры, юмора, а также социоцентрической и персоноцентрической иронии) становится трагико-драматическое и героико-идиллическое начало; содержанием шутки становится концептуально выстроенное мировоззрение, научно-философское по своему характеру.
Таким образом, «давайте шутить, играть давайте» становится не легкомысленной рекомендацией, а художественным императивом: если писатель не шутит – это совсем не смешно; это значит – писателя не существует. Игровая природа искусства сказывается и в том, что оно «выдумывает» образы, за которыми стоит невыдуманное отношение, и образы, воздействуя на психику (чувства) и сознание (абстрактно-логическую область ментальности) одновременно, «маскируют» серьёзный (то есть познавательный) концептуальный посыл за смехом и слезами – за шуткой (мэссиджэм психологически-приспособительным). Получается буквально: в каждой шутке есть доля шутки.
Разумеется, сказанное не означает, что каждый шутник и остроумец по определению становится писателем. Шутить, не шутя, – это высокое трагико-драматическое искусство, а остроумие – всего лишь лучший способ скрывать свою глупость. Всё зависит от доли шутки – то есть от доли серьёзного отношения.
1.5. Еще раз о критериях художественности
Литературу в целом и произведение в частности невозможно описать через набор постоянных и неизменных признаков. Произведение (литература) является своеобразным семантическим облаком, которое можно адекватно описать как систему связей: социальных (прагматических, идеологических, психологических и т. д.), философских, эстетических – перечень замыкается в целостный круг, становящийся спектром. Именно связи придают «облаку» определенную узнаваемую конфигурацию; «облака» постоянно меняют форму, оставляя неизменным только одно: гибкую, изменчивую систему связей.
Поскольку это так, вопрос о критериях художественности неизбежно упирается все в ту же систему связей, где выделяются опорные, ключевые звенья, а именно: Красота (эстетическое измерение), Добро (этический аспект), Истина (начало философское). Содержание красоты – истина (ориентированная на добро). Иначе говоря, красота является способом организации смысла.
Поскольку это так, содержательным критерием художественности является степень семантической насыщенности, переходящая в качество, традиционно определяемое как философское. Что имеется в виду?
Философское, философия – это тоже система связей, а не набор стационарных величин (признаков). Философия возникает не там, где появляется рефлексия, подкрепленная эрудицией, а там, где поводом к рефлексии служит, во-первых, экзистенциальный мотив (так или иначе упирающийся в проблему смысла жизни); во-вторых, результатом подобной рефлексии становится явно или неявно выраженная в высшей степени противоречивая (диалектика, ядро и инструмент философии, не оставляет иного выбора) система гуманистических ценностей (мировоззренческая картина). При этом противоречивость становится способом существования гармонии.
Такого рода духовная работа делает «философию» делом далеко не самым приятным и доступным далеко не каждому. Рефлексия как таковая, созерцательность и медитативность сами по себе – это формальные, но не содержательные признаки «философскости». «Размышления» литературных героев – это, за малым исключением, карикатура на квалифицированный умственный труд.
Литература, наследуя философский пафос и ориентируясь на него, рано или поздно выдвигает в качестве классического, образцового героя такой тип личности (а личность – это тоже система связей), который пытается посредством жизнетворчества реализовать свое представление о жизни, воплотить выстраданное мировоззрение, примирить (привести в состояние относительной гармонии) ум и душу. Такое «примирение» – всегда источник конфликта.
Все остальные герои – на порядок ниже, следовательно, на порядок ограничивают художественные возможности литературы, специализирующейся на представлении «простых» героев, «маленьких» людей, влюбленных или верующих мужчин и женщин, рыцарей, детей и т. д.
Однако если всерьез говорить об объективных критериях художественности, следует подчеркнуть диалектический (внутренне противоречивый) характер связей в триаде Красота – Добро – Истина. Во-первых, надо помнить об относительной автономности этих компонентов, спаянных, казалось бы, в нерасчленимое целое. Автономность в рамках целостности – это один из парадоксов художественности. Во-вторых (и это следующий парадокс художественности), гармония триады означает не строго пропорциональное совмещение неких «квот» на красоту, истину, заполняющих пространство художественности; гармония осуществляется через механизм компенсации, выпячивания одного компонента, одной системы связей – за счет другой. Скажем, ситуация «дефицит концептуального (философского) смысла» может быть великолепной предпосылкой для создания шедевра, где блеск стиля (красоты) может реализоваться только при отсутствии серьезной содержательной основы (эта закономерность прослеживается в творчестве, например, Булгакова, Набокова, Платонова). Только в случаях, близких к эталонным, можно говорить о точках золотого сечения – о гармонии как о наличии соразмерных компонентов, адекватно взаимопредставленных в органическом целом. Как видим, в данном случае речь идет о гармонии иного типа. Здесь соразмерность определяется смысловой целесообразностью. Здесь реализуется ситуация не «одно за счет другого», а «одно с помощью другого». Есть разница.
Таким образом, представление о критерии художественности в свою очередь зависит от качества «философии» исследователя, и прежде всего от глубины его трактовки категории Истина. Совмещение ценностных парадигм субъекта и объекта исследования – гигантская научная проблема, которая сегодня, несмотря на свой объективный характер, традиционно решается субъективными средствами. Слабым гарантом «объективности» подхода является сомнительный, количественно-психологический по природе своей, фактор: коллективное мнение (чтобы не сказать коллективное бессознательное). Коллективное мнение оперирует не научно выверенной «методой», а неким здравым, наднаучным смыслом: не могут все шагать не в ногу, а один – в ногу. Так не бывает: вот самый главный научный аргумент в гуманитарных дисциплинах сегодня. В такой ситуации есть только один достойный контраргумент: так бывает. Все бы и замечательно, но только подобную систему связей, систему обмена информацией, невозможно квалифицировать как научную. В ненаучной системе обмена информацией система художественных связей всегда предстает как хаотическая, случайная, произвольная, субъективная – как антисистема. В парадигме научной бесформенное «семантическое облако» становится жестко структурированной «системой связей», что и является предпосылкой объективного подхода к критериям художественности. Иными словами, вопрос критериев художественности – это вопрос качества мышления, вопрос обнаружения системных отношений, тяготеющих к отношениям иного качества – целостным, сверх-, анти(!)системным, как бы хаотическим и субъективным. «Договориться» о критериях – нельзя, ибо они есть воплощение закона сохранения информации. Проблема в том, что если «исследователь» не понимает сути закона – он в принципе отвергает саму постановку вопроса о критериях художественности. И качества человеческие здесь не имеют ровным счетом никакого значения. Хуже того, имеют, но в модусе, шокирующем бескорыстных рыцарей науки: чем честнее исследователь – тем глубже он заблуждается. Чем лучше человек – тем хуже для его обожаемой науки. Обожание предмета исследования – это и есть гарантия субъективности, ибо налицо подмена отношения: обожать вместо понимать, нравится вместо беспристрастного (читай бессердечного, бездушного) анализа, удовольствие от сопереживания вместо удовлетворения от познания. Происходит подмена технологии науки технологией того самого художественного творчества. В этом все дело: невозможность обосновать критерии «искусства» свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с искусством по поводу искусства.
Отсюда следует: важнейший императив научного отношения – разработка критериев художественности. Скажи мне, чем ты руководствуешься при отборе критериев, – и я скажу, насколько научна твоя наука.
1.6. Глубина художественного содержания
1
Всякое художественное произведение начинается с известной плотности смысла (в первую очередь это касается художественной прозы). Если нет «густого» смысла – «проза» становится набором слов. Собственно, графоманством, занятием, напоминающим перебирание слов-четок. Более или менее талантливым – суть дела от этого не меняется.
Но вот большой вопрос: что создает эту самую плотность смысла, которую ощутить несложно, а вычленить (по ощущению) почти невозможно?
Если ориентироваться не на ощущение, а на здравый смысл и подсказанную им методологию, то ответ очевиден (правда, это еще не означает, что он понравится тем, кто твердо стоит на почве ощущений): плотность смысла определяется эффективностью постижения и воспроизведения многоуровневой информационной структуры – личности, фокусирующей сам феномен культуры. Ни больше, ни меньше. Плотность смысла задается точкой отсчета в произведении; расположение этой точки и определяет «глубину». Чтобы «глубина», «густота, «плотность», «точка отсчета» перестали быть метафорами (способом передачи ощущений), а несли понятную смысловую нагрузку, необходимо наполнить их конкретным смыслом. Этим мы и собираемся сейчас заняться.
Если глубина художественного содержания представляет собой характеристику информационно-концептуальную, то наличие в произведении, где эстетические параметры приоритетны, духовной (неэстетической) программы является той обязательной предпосылкой, которая служит прямым и непосредственным показателем глубины. Духовная программа, данная нам в ощущениях (эстетически отраженная и воспринятая), – вот святая святых произведения. Еще проще: все упирается в масштаб личности творца, которая (личность) задает масштаб художественного мира.
Начать, конечно, придется с акцентирования информационной природы личности. Укажем на три уровня, три пласта информации, которые вступают друг с другом в сложные взаимоотношения, образуя феномен личности: тело (натура), душа (в большей степени психика, натура, нежели сознание, культура) и дух (культура, точнее, ее базовый элемент: сознание). Качество (масштаб) личности определяется качеством информации; последнее же является показателем концептуального аспекта информации (глубины), показателем не количества (объема) информации, а ее незримой «вертикальной» составляющей, принципов упорядочивания информационного хаоса, принципов, на которых выстраивается как бы само собой разумеющийся информационный космос. Глубина, таким образом, – это свойство концепции. Понятно, что качество информации определяется сознанием, качество это есть всецело культурная величина. Если человека называют венцом творящей природы, натуры, то личность с полным на то основанием следует считать венцом культуры, ее целью и результатом, субъектом и объектом. Развитие культуры рано или поздно приводит к устойчивой ориентации на личность (к персоноцентризму), при помощи сознания выделенную из природы и социальной среды и отделенную от них (но не изолированную, конечно). Иными словами, главным художественным содержанием в произведениях всех времен и народов является конфликт натуры и культуры – конфликт либо обогащающий личность (вектор прогресса культуры), либо отражающий процесс деградации личности (вперед, к природе: тенденция регресса культуры).
Мы сказали – рано или поздно, в конце концов. Вначале же культурным героем являлся подлинный Герой, то есть персонаж малокультурный (следовательно, тяготеющий к натуре), в котором личностное начало было редуцировано в очень значительной, катастрофической для личности степени (но весьма благоприятной для социума). Культ такого героя являлся, по существу, культом «народа», родины, чего-то непременно социально значимого, социально содержательного (не личностного, что принципиально). Герой – это благородная форма неспособности быть личностью и, конечно же, прямая угроза личности. Но глупо было бы предъявлять герою, продукту конкретно-историческому, такую внеисторическую, абстрактно-гуманистическую претензию. На тот момент, в тех условиях личностное начало могло существовать только в форме героической. И оно существовало, и отражалось в художественной литературе. Натура в форме культурно-социальной всегда брала верх над культурой как таковой (явлением, строго говоря, в значительной мере асоциальным).
Человек видел свое природное предназначение в том, чтобы служить чему-то, располагающемуся вне его, в социуме, в чем-то авторитарном по сути, подчиняющем волю и сознание героя. Герой – это социоцентрическая ориентация, ориентация во многом антикультурная, но во многом ведущая именно к культуре: иных путей у человека становиться личностью просто не было и нет. Служение социуму было опорой личного достоинства героя, это не унижало, но возвышало его – и в собственных глазах, и в глазах общественного мнения. Для героя нет ничего выше служения Долгу – как бы его ни понимать. Изменить этому предназначению – изменить себе. Выделенный «ген героики» (тип отношений с социумом) всегда самотождествен, трансисторичен. Если складываются такие общественно-исторические условия, для приспособления к которым неуместно ставить «личное» выше «общественного», в этих случаях актуализируется героическое начало в людях. Герои Гомера, «Слова о полку Игореве», романов социалистического реализма («Мать», «Как закалялась сталь»), многих произведений Солженицына – «близнецы-братья». Это люди долга, самозабвенно ему служащие. Совесть героев – это авторитарная совесть. Жизнь героя принадлежит не ему, но Авторитету (судьбе, богу, сословию, родине, нации и т. д. – социуму, но не личности). Поэтому герой постоянно совершает подвиги – «богоугодные», благо-творительные поступки.
Иногда героя считают образцовой, богатой, содержательной личностью. Это неверно по существу. Герой – это и есть почетная, приветствуемая обществом обезличенность, это культ отношений, в которых, так сказать, нет ничего личного. Герой черпает свою значимость только в социуме; без него герой превращается в ноль. Для героя хорошо прожить – значит, раствориться в социуме без остатка, обезличиться. Отсутствие героя или даже его гибель – ровным счетом ничего не меняют в мире, где главным является не герой, но то, что делает героя. Социум (Авторитет!) не замечает потери бойца. Его место займут легионы других. Если личность принципиально незаменима, то герой вполне заменим, принципиально заменим. Он незаменим только в том смысле, что он может быть Очень Большим Героем, – в количественном, но не в качественном отношении.
Героика – это оптимальная, эстетически и духовно безупречная форма цельного, непротиворечивого (а значит и неполноценного) типа личности. В литературе такой одномерный тип и принято называть «типом» (в отличие от многомерного «характера», формы проявления личности). Бескомпромиссные герои и святые, по-своему привлекательные своим не ведающим сомнения фанатизмом, идеально соответствуют всем сверхзадачам идеологии. Поэтому лучший идеолог – это герой.
Ясно, что героика развивается, психологизируется (то есть в известном смысле гуманизируется, обогащается противоположным, личностным началом), меняются времена, меняя содержание Авторитета, – словом, героика эволюционирует, усложняя и совершенствуя свои типы. Но формула героики при этом остается незыблемой.
Приблизительно до ХVIII столетия в мировой истории личность, в основном, ориентировалась на героическую программу. Поскольку нас в данном случае интересует не история проблемы, а необходимая «рабочая» установка, отметим следующее. Ослабление авторитарного начала неизбежно усиливало начало неавторитарное. В конце концов, к ХVIII веку сложилась такая культурная ситуация, когда героизм как чемпионская стратегия ослабел настолько, что цельность личности можно было восстановить только на принципиально иной основе. На первый план выходит частная жизнь человека, начинается эпоха истинного культа личности (т. е. культа Гуманистических Идеалов). С точки зрения культуры, личность становится полноценным субъектом частной жизни. Ценности человека коренным образом меняются. Начинается художественное (а также философско-этическое, политико-экономическое и т. д.) освоение не героических и связанных с ними трагических и сатирических сторон жизнедеятельности личности, а человеческой самоценности, естественности. На основе идеалов гуманистических (персоноцентристских) возникают принципиально иные пафосы: идиллическо-гуманистический, драматический, юмористический.
Это варианты новой жизненной идеологии, утверждающей ценности из разряда частной жизни. Ценности эти своей обнаженной экзистенциальной сутью разворачиваются именно в сторону частного лица, Ее Величества личности. Новая триада – это героика, трагизм и сатира наоборот. Гуманистическое и Авторитарное поменялись местами, образуя целостность личности на иной основе. Художественные (и – шире – духовные) результаты на «дрожжах» новой идеологии оказались потрясающими. Новые стратегии художественной типизации легли в основу романтизма, а затем и реализма.
Личность – это в значительной степени антигерой (не лже-, а именно антигерой). Без личности социум теряет свою значимость, превращается в начало второстепенное. Выдвижение личности на первый план (персоноцентризм) – это не просто новые художественные возможности (коллизии, сюжеты, типы героев и т. д.); это прежде всего новый тип отношений, который реализует новые духовные возможности. «Хорошо прожить – хорошо спрятаться»: вот новое (хорошо забытое старое, Эпикурово) кредо нового героя. Иными словами в качестве главной задачи ставится задача дистанцироваться от социума, не порывая связей с ним. Личность не враг обществу; она друг себе.
Гуманистическая идиллия – это гармония внутриличностного мира, при которой оказывается возможным совместить интересы социума и личности без ущерба для последних и без прежней агрессивности первых (так как «иррациональный авторитет» уступает место «рациональному»: отчетливо обозначается приоритет культурной регуляции). Частный человек, перестав быть нерассуждающим, нерефлектирующим героем, чрезвычайно обогатился, совместив в себе серьезное отношение к святыням героя и одновременно критическое отношение к ним частного лица. Внутренний мир человека стал вмещать в себя героическое начало, поставленное на службу личности. Это оказалось возможным благодаря диалектически осознанным взаимоотношениям социального и персонального, натуры и культуры в личности. Диалектика обнаружила несостоятельность героической однозначности и лишила трагедию свойственной ей безысходности.
Перед нами совершенно иной уклад гармонии. Если гармония героики покоилась на искоренении всех и всяческих противоречий и абсолютной вере в абсолютные Идеалы, то идиллическая гармония представляет собой динамическое равновесие взаимоисключающих компонентов, и составляющими ее могут быть все виды пафоса – организованные, однако, в духе подчинения «низших» ценностей рационально осознанным «высшим». В данном случае гармония – это организованность, разумная упорядоченность, единство противоположностей (а не иррациональный культ Авторитарного, присущий героике).
2
А теперь вернемся к глубине содержания. Как видим, в художественном содержании вполне возможно обнаружить общую, универсальную точку отсчета: это развитая личность. Дело, если обращаться к примерам, не в Онегине, а в том, что в этой личности реализована всеобщая точка отсчета. Дело не в уникальности Онегина – а в уникальной манифестации универсальности. Почему же в таком случае «Евгений Онегин» стал «программой русского литературного развития (нам неоднократно приходилось писать об этом)?
А он никогда ею и не был в буквальном смысле, несмотря на то, что русская литература развивалась в русле «Онегина». Дело, повторим, в том, что роман в стихах реализовал всеобщую точку отсчета. Пушкин ничего не выдумывал: ситуация «горе от ума» – это оболочка древнего конфликта натуры и культуры. Поэтому броский девиз «Пушкин – это наше все» – это темный лозунг, и больше ничего. До «Онегина» нравственность была привязана к «герою» – то есть к тому, кто общественное ставит выше личного. В этой системе отсчета, как мы помним, чем меньше личного – тем больше героического. Герой нравственен (точнее, морален) в отношении общества. Но тот же герой безнравственен в отношении себя как личности. Герой в лице Онегина сменился Героем Нашего (Нового) Времени, то есть антигероем. Произошла смена вех, смена ориентации с социоцентризма – на персоноцентризм.
В свете сформулированного методологического подхода любопытно было бы посмотреть на некогда славную категорию «народности» в литературе. Народность зиждется на героической идеологии, последняя же так или иначе ставит интересы народа выше интересов личности. Отражение такой идеологии в литературе, то есть применение ее в качестве духовной структуры и доминанты персонажа – в качестве стратегии художественной типизации – превращает эту категорию в духовно-эстетическую, литературоведческую. Целостное завершение эта категория обретает в стиле. Начинает казаться, что народность имманентна самой литературе. Хочется думать, что литература и герой – две вещи нераздельные. В таком случае эталоном будет являться не «Евгений Онегин», а «Капитанская дочка».
Но это, увы, не так. К счастью, не так. Если ставить вопрос об универсальности категории «народность», то необходимо иметь в виду то, что было сказано нами ранее. Развитие литературы постепенно, но неизбежно выдвигает на первый план личность, хотя, надо признать, не устраняет окончательно само понятие народ. Такова логика развития культуры. Здесь нет чьей-то персональной прихоти. Просто констатируем: народный вектор перестал быть определяющим. Само отсутствие этой категории или явная ее периферийность уже не воспринимаются как знак художественной ущербности, неполноценности, несовершенства произведения. Система ценностей, похоже, изменилась необратимо. Даже если мы вернемся к героизму и связанной с ним народности – объективно это будет шаг назад в культурном смысле. Во всяком случае, такими мотивами, как «именем народа» или «во имя народа», сегодня уже невозможно вылепить нечто духовно адекватное запросам эпохи, уровню современной культуры. Героика народного типа – архаична.
Но это не значит, конечно, что выдвижение на авансцену культуры начала противоположного, персонального, автоматически приводит к иному, более впечатляющему художественному результату. Духовное всегда есть предпосылка эстетического – не менее, но и не более того. Можно говорить о перспективности художественного потенциала; разговор же о конкретном художественном результате – всегда конкретный разговор. Глубина образуется вследствие совмещения несовместимого: натуры и культуры. Само вот это глубоко культурное действо или чародейство – совмещение противоположностей – мало еще что проясняет, даже если речь идет о противоречиях, носящих не локальный, поверхностный характер, а – универсальный, глобальный; даже если речь идет о противоречиях натуры и культуры. (А ведь часто, заметим, нам предлагают интерпретацию мелких противоречий, которые являются всего лишь причудливым отражением, отблеском противоречий сущностных.) Глубина может освещаться по-разному – с разной мерой диалектичности, либо затемняющей глубину, либо выявляющей ее безмерность. Глубина – это не константа, а реализованная возможность. Обратимся к примерам, которые помогут прояснить сказанное. При этом не будем ограничивать себя выбором иллюстративного материала, ибо ключевые постулаты должны «срабатывать» везде.
Возьмем произведения В. Сорокина, автора ныне модного, нашумевшего, скандального. Чем же можно прославиться сегодня? Да тем же, чем и вчера. Вот, к примеру, книга «Утро снайпера» (издательство «Ад Маргинем», 2002). Она состоит из рассказов и повестей, сделанных на одну колодку, под один трафарет; и лекала, конечно, прописаны резцом бессознательного. Очень и очень сомнительно, что автор делал свои вещи спустя рукава. Это все, на что способен г. Сорокин, это его предел и потолок. В его масштабах – это просто культурный подвиг. О чем же пишет, я бы даже сказал хлопочет, г. Сорокин, человек, вроде бы владеющий словом? О нем бытует устойчивое мнение: что ни говори – а он умеет писать. Умение писать, обратим внимание, по умолчанию отделяется от того, о чем пишет умелец, от содержания. Можно, дескать, ни о чем написать что-то, и это будет что-то с чем-то.
Так вот скучные и однообразные в плане философско-познавательном модели Сорокина (г.) выстраиваются вокруг одной оппозиции, тиражируемой бесконечно: автор начинает чинно и благородно, с культурного лоска и блеска – и потом все «неожиданно» переведет на г… (это не наша метафора, а весьма знаковая, «смыслонасыщенная» вещь в поэтике г. Сорокина). Такой трюк (культурный оверкиль) – это не пустая фишка коммерциализированной продукции, как могло бы показаться. Это даже не назовешь приемом, то есть свойством стиля (ведь стиль – категория зависимая: он всегда исполняет волю заказчика, реализует заданную «точкой отсчета» «глубину»). Это типично постмодернистское неверие в культуру, редукция мозга к паху (в случае с г. Сорокиным – к анальному отверстию), духа – к инстинктам. Акт посрамления культуры преподносится как глубоко культурный акт, сверхкультурный, стоящий выше культуры. Пост и еще раз пост. Таков подвиг г. Сорокина, личности, конечно, героической. Просто он служит г… – а что делать, если весь мир погряз? Подвиг дурно пахнет – так ведь честность никогда не была белой и пушистой. Это такое рабочее, даже чернорабочее качество, пахнущее потом и кровью. И еще кое-чем. А честность для таких гг. – это не что иное, как истина. Вот вам и точка отсчета. Не фишка, не прием, и даже не эпатаж: Истина. Сорокин весь по уши в истине.
Именно такие шутки стали способом подачи «громадного» философского материала, в чем и заключается одна из особенностей «воздушного» стиля «Евгения Онегина». Весь роман, собственно, состоит из подобных шуток, реплик, от строфы к строфе превращаясь в одну божественную шутку по поводу законов сочетания духа, души и тела. Доступен ли такой роман «простым людям»?
Это, конечно, шутливая постановка вопроса. Роман доступен тем, кто способен понимать шутки.
6
А теперь зададимся вопросом: каков художественно-эстетический механизм шутки, понимаемой не только как «противоречивый», диалектический «инструмент мысли», но и как вариант синтетического «пафоса», как вариант мировоззренческой матрицы?
Почему именно шутка становится в информационном отношении максимально насыщенной единицей, максимально содержательным моментом целого?
Для ответа на этот вопрос необходимо хотя бы бегло, так сказать, в рабочем порядке, обратиться к теории пафоса. Теория эта, рассмотренная нами как момент если не универсальной, то «генеральной» литературной теории (см. Андреев А.Н. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество. В двух частях. Часть 1. Теория литературно-художественного произведения. – Минск, БГУ, 2004.), позволяет, во-первых, поставить вопрос именно в такой плоскости, в которой он поставлен, и, во-вторых, искать ответ именно в контексте пафосной стратегии произведения.
Если согласиться с тем, что в истории культуры существуют, по большому счету, два идеала личности, тяготеющих к двум типам гармонии, социоцентрическому и персоноцентрическому, то идеалы эти легко принимают параметры духовно-эстетической парадигмы, которая может быть представлена в виде двух триад. Первая, социоцентрическая: сатира – героика – трагизм; вторая, персоноцентрическая: юмор – идиллия – драматизм.
Из этого следует, что, с одной стороны, сатира содержит в себе все содержательные признаки героического и трагического (серьезного, не шутливого), а с другой – и трагизм, и героика при всей своей принципиальной «неулыбчивости» предрасположены к игровому, сатирическо-ироническому взгляду на мир. Именно поэтому и героика, и трагизм адекватно (всесторонне, целостно) выражаются посредством комического. Именно так: начало сатирическое является имманентным признаком начала героико-трагического.
То же самое следует сказать и в отношении юмора как вида пафоса, который содержит в себе все признаки идиллического и драматического (опять же – серьезного, фундаментально-концептуального), а с другой – и драматизм, и идиллия при всей своей научности и системности принципиально не отгорожены от игрового, юмористическо-иронического взгляда на мир. Начало юмористическое является имманентным признаком начала идиллико-драматического.
В широком смысле начало комическое (шутливое) не существует без героического и трагико-драматического (серьёзного).
Вот почему, затронув юмор, мы вынужденно касаемся всей персоноцентрической парадигмы (и отчасти, разумеется, парадигмы социоцентрической, которые не изолированы друг от друга). То же самое, с соответствующей содержательной поправкой, можно сказать и по поводу сатиры: сатирический взгляд на вещи является не целостным и самодостаточным мировоззренческим отношением, а моментом предельно серьезной социоцентрической идеологии. С другой стороны, «чистая героика» – это наивно, и потому, увы, грустно и смешно; то, что начинается как героика, не может не продолжаться как сатира и трагизм, ибо: сатира, героика и трагизм – это модусы социоцентрического отношения. Содержанием комического (сатиры, юмора, а также социоцентрической и персоноцентрической иронии) становится трагико-драматическое и героико-идиллическое начало; содержанием шутки становится концептуально выстроенное мировоззрение, научно-философское по своему характеру.
Таким образом, «давайте шутить, играть давайте» становится не легкомысленной рекомендацией, а художественным императивом: если писатель не шутит – это совсем не смешно; это значит – писателя не существует. Игровая природа искусства сказывается и в том, что оно «выдумывает» образы, за которыми стоит невыдуманное отношение, и образы, воздействуя на психику (чувства) и сознание (абстрактно-логическую область ментальности) одновременно, «маскируют» серьёзный (то есть познавательный) концептуальный посыл за смехом и слезами – за шуткой (мэссиджэм психологически-приспособительным). Получается буквально: в каждой шутке есть доля шутки.
Разумеется, сказанное не означает, что каждый шутник и остроумец по определению становится писателем. Шутить, не шутя, – это высокое трагико-драматическое искусство, а остроумие – всего лишь лучший способ скрывать свою глупость. Всё зависит от доли шутки – то есть от доли серьёзного отношения.
1.5. Еще раз о критериях художественности
Литературу в целом и произведение в частности невозможно описать через набор постоянных и неизменных признаков. Произведение (литература) является своеобразным семантическим облаком, которое можно адекватно описать как систему связей: социальных (прагматических, идеологических, психологических и т. д.), философских, эстетических – перечень замыкается в целостный круг, становящийся спектром. Именно связи придают «облаку» определенную узнаваемую конфигурацию; «облака» постоянно меняют форму, оставляя неизменным только одно: гибкую, изменчивую систему связей.
Поскольку это так, вопрос о критериях художественности неизбежно упирается все в ту же систему связей, где выделяются опорные, ключевые звенья, а именно: Красота (эстетическое измерение), Добро (этический аспект), Истина (начало философское). Содержание красоты – истина (ориентированная на добро). Иначе говоря, красота является способом организации смысла.
Поскольку это так, содержательным критерием художественности является степень семантической насыщенности, переходящая в качество, традиционно определяемое как философское. Что имеется в виду?
Философское, философия – это тоже система связей, а не набор стационарных величин (признаков). Философия возникает не там, где появляется рефлексия, подкрепленная эрудицией, а там, где поводом к рефлексии служит, во-первых, экзистенциальный мотив (так или иначе упирающийся в проблему смысла жизни); во-вторых, результатом подобной рефлексии становится явно или неявно выраженная в высшей степени противоречивая (диалектика, ядро и инструмент философии, не оставляет иного выбора) система гуманистических ценностей (мировоззренческая картина). При этом противоречивость становится способом существования гармонии.
Такого рода духовная работа делает «философию» делом далеко не самым приятным и доступным далеко не каждому. Рефлексия как таковая, созерцательность и медитативность сами по себе – это формальные, но не содержательные признаки «философскости». «Размышления» литературных героев – это, за малым исключением, карикатура на квалифицированный умственный труд.
Литература, наследуя философский пафос и ориентируясь на него, рано или поздно выдвигает в качестве классического, образцового героя такой тип личности (а личность – это тоже система связей), который пытается посредством жизнетворчества реализовать свое представление о жизни, воплотить выстраданное мировоззрение, примирить (привести в состояние относительной гармонии) ум и душу. Такое «примирение» – всегда источник конфликта.
Все остальные герои – на порядок ниже, следовательно, на порядок ограничивают художественные возможности литературы, специализирующейся на представлении «простых» героев, «маленьких» людей, влюбленных или верующих мужчин и женщин, рыцарей, детей и т. д.
Однако если всерьез говорить об объективных критериях художественности, следует подчеркнуть диалектический (внутренне противоречивый) характер связей в триаде Красота – Добро – Истина. Во-первых, надо помнить об относительной автономности этих компонентов, спаянных, казалось бы, в нерасчленимое целое. Автономность в рамках целостности – это один из парадоксов художественности. Во-вторых (и это следующий парадокс художественности), гармония триады означает не строго пропорциональное совмещение неких «квот» на красоту, истину, заполняющих пространство художественности; гармония осуществляется через механизм компенсации, выпячивания одного компонента, одной системы связей – за счет другой. Скажем, ситуация «дефицит концептуального (философского) смысла» может быть великолепной предпосылкой для создания шедевра, где блеск стиля (красоты) может реализоваться только при отсутствии серьезной содержательной основы (эта закономерность прослеживается в творчестве, например, Булгакова, Набокова, Платонова). Только в случаях, близких к эталонным, можно говорить о точках золотого сечения – о гармонии как о наличии соразмерных компонентов, адекватно взаимопредставленных в органическом целом. Как видим, в данном случае речь идет о гармонии иного типа. Здесь соразмерность определяется смысловой целесообразностью. Здесь реализуется ситуация не «одно за счет другого», а «одно с помощью другого». Есть разница.
Таким образом, представление о критерии художественности в свою очередь зависит от качества «философии» исследователя, и прежде всего от глубины его трактовки категории Истина. Совмещение ценностных парадигм субъекта и объекта исследования – гигантская научная проблема, которая сегодня, несмотря на свой объективный характер, традиционно решается субъективными средствами. Слабым гарантом «объективности» подхода является сомнительный, количественно-психологический по природе своей, фактор: коллективное мнение (чтобы не сказать коллективное бессознательное). Коллективное мнение оперирует не научно выверенной «методой», а неким здравым, наднаучным смыслом: не могут все шагать не в ногу, а один – в ногу. Так не бывает: вот самый главный научный аргумент в гуманитарных дисциплинах сегодня. В такой ситуации есть только один достойный контраргумент: так бывает. Все бы и замечательно, но только подобную систему связей, систему обмена информацией, невозможно квалифицировать как научную. В ненаучной системе обмена информацией система художественных связей всегда предстает как хаотическая, случайная, произвольная, субъективная – как антисистема. В парадигме научной бесформенное «семантическое облако» становится жестко структурированной «системой связей», что и является предпосылкой объективного подхода к критериям художественности. Иными словами, вопрос критериев художественности – это вопрос качества мышления, вопрос обнаружения системных отношений, тяготеющих к отношениям иного качества – целостным, сверх-, анти(!)системным, как бы хаотическим и субъективным. «Договориться» о критериях – нельзя, ибо они есть воплощение закона сохранения информации. Проблема в том, что если «исследователь» не понимает сути закона – он в принципе отвергает саму постановку вопроса о критериях художественности. И качества человеческие здесь не имеют ровным счетом никакого значения. Хуже того, имеют, но в модусе, шокирующем бескорыстных рыцарей науки: чем честнее исследователь – тем глубже он заблуждается. Чем лучше человек – тем хуже для его обожаемой науки. Обожание предмета исследования – это и есть гарантия субъективности, ибо налицо подмена отношения: обожать вместо понимать, нравится вместо беспристрастного (читай бессердечного, бездушного) анализа, удовольствие от сопереживания вместо удовлетворения от познания. Происходит подмена технологии науки технологией того самого художественного творчества. В этом все дело: невозможность обосновать критерии «искусства» свидетельствует о том, что мы сталкиваемся с искусством по поводу искусства.
Отсюда следует: важнейший императив научного отношения – разработка критериев художественности. Скажи мне, чем ты руководствуешься при отборе критериев, – и я скажу, насколько научна твоя наука.
1.6. Глубина художественного содержания
1
Всякое художественное произведение начинается с известной плотности смысла (в первую очередь это касается художественной прозы). Если нет «густого» смысла – «проза» становится набором слов. Собственно, графоманством, занятием, напоминающим перебирание слов-четок. Более или менее талантливым – суть дела от этого не меняется.
Но вот большой вопрос: что создает эту самую плотность смысла, которую ощутить несложно, а вычленить (по ощущению) почти невозможно?
Если ориентироваться не на ощущение, а на здравый смысл и подсказанную им методологию, то ответ очевиден (правда, это еще не означает, что он понравится тем, кто твердо стоит на почве ощущений): плотность смысла определяется эффективностью постижения и воспроизведения многоуровневой информационной структуры – личности, фокусирующей сам феномен культуры. Ни больше, ни меньше. Плотность смысла задается точкой отсчета в произведении; расположение этой точки и определяет «глубину». Чтобы «глубина», «густота, «плотность», «точка отсчета» перестали быть метафорами (способом передачи ощущений), а несли понятную смысловую нагрузку, необходимо наполнить их конкретным смыслом. Этим мы и собираемся сейчас заняться.
Если глубина художественного содержания представляет собой характеристику информационно-концептуальную, то наличие в произведении, где эстетические параметры приоритетны, духовной (неэстетической) программы является той обязательной предпосылкой, которая служит прямым и непосредственным показателем глубины. Духовная программа, данная нам в ощущениях (эстетически отраженная и воспринятая), – вот святая святых произведения. Еще проще: все упирается в масштаб личности творца, которая (личность) задает масштаб художественного мира.
Начать, конечно, придется с акцентирования информационной природы личности. Укажем на три уровня, три пласта информации, которые вступают друг с другом в сложные взаимоотношения, образуя феномен личности: тело (натура), душа (в большей степени психика, натура, нежели сознание, культура) и дух (культура, точнее, ее базовый элемент: сознание). Качество (масштаб) личности определяется качеством информации; последнее же является показателем концептуального аспекта информации (глубины), показателем не количества (объема) информации, а ее незримой «вертикальной» составляющей, принципов упорядочивания информационного хаоса, принципов, на которых выстраивается как бы само собой разумеющийся информационный космос. Глубина, таким образом, – это свойство концепции. Понятно, что качество информации определяется сознанием, качество это есть всецело культурная величина. Если человека называют венцом творящей природы, натуры, то личность с полным на то основанием следует считать венцом культуры, ее целью и результатом, субъектом и объектом. Развитие культуры рано или поздно приводит к устойчивой ориентации на личность (к персоноцентризму), при помощи сознания выделенную из природы и социальной среды и отделенную от них (но не изолированную, конечно). Иными словами, главным художественным содержанием в произведениях всех времен и народов является конфликт натуры и культуры – конфликт либо обогащающий личность (вектор прогресса культуры), либо отражающий процесс деградации личности (вперед, к природе: тенденция регресса культуры).
Мы сказали – рано или поздно, в конце концов. Вначале же культурным героем являлся подлинный Герой, то есть персонаж малокультурный (следовательно, тяготеющий к натуре), в котором личностное начало было редуцировано в очень значительной, катастрофической для личности степени (но весьма благоприятной для социума). Культ такого героя являлся, по существу, культом «народа», родины, чего-то непременно социально значимого, социально содержательного (не личностного, что принципиально). Герой – это благородная форма неспособности быть личностью и, конечно же, прямая угроза личности. Но глупо было бы предъявлять герою, продукту конкретно-историческому, такую внеисторическую, абстрактно-гуманистическую претензию. На тот момент, в тех условиях личностное начало могло существовать только в форме героической. И оно существовало, и отражалось в художественной литературе. Натура в форме культурно-социальной всегда брала верх над культурой как таковой (явлением, строго говоря, в значительной мере асоциальным).
Человек видел свое природное предназначение в том, чтобы служить чему-то, располагающемуся вне его, в социуме, в чем-то авторитарном по сути, подчиняющем волю и сознание героя. Герой – это социоцентрическая ориентация, ориентация во многом антикультурная, но во многом ведущая именно к культуре: иных путей у человека становиться личностью просто не было и нет. Служение социуму было опорой личного достоинства героя, это не унижало, но возвышало его – и в собственных глазах, и в глазах общественного мнения. Для героя нет ничего выше служения Долгу – как бы его ни понимать. Изменить этому предназначению – изменить себе. Выделенный «ген героики» (тип отношений с социумом) всегда самотождествен, трансисторичен. Если складываются такие общественно-исторические условия, для приспособления к которым неуместно ставить «личное» выше «общественного», в этих случаях актуализируется героическое начало в людях. Герои Гомера, «Слова о полку Игореве», романов социалистического реализма («Мать», «Как закалялась сталь»), многих произведений Солженицына – «близнецы-братья». Это люди долга, самозабвенно ему служащие. Совесть героев – это авторитарная совесть. Жизнь героя принадлежит не ему, но Авторитету (судьбе, богу, сословию, родине, нации и т. д. – социуму, но не личности). Поэтому герой постоянно совершает подвиги – «богоугодные», благо-творительные поступки.
Иногда героя считают образцовой, богатой, содержательной личностью. Это неверно по существу. Герой – это и есть почетная, приветствуемая обществом обезличенность, это культ отношений, в которых, так сказать, нет ничего личного. Герой черпает свою значимость только в социуме; без него герой превращается в ноль. Для героя хорошо прожить – значит, раствориться в социуме без остатка, обезличиться. Отсутствие героя или даже его гибель – ровным счетом ничего не меняют в мире, где главным является не герой, но то, что делает героя. Социум (Авторитет!) не замечает потери бойца. Его место займут легионы других. Если личность принципиально незаменима, то герой вполне заменим, принципиально заменим. Он незаменим только в том смысле, что он может быть Очень Большим Героем, – в количественном, но не в качественном отношении.
Героика – это оптимальная, эстетически и духовно безупречная форма цельного, непротиворечивого (а значит и неполноценного) типа личности. В литературе такой одномерный тип и принято называть «типом» (в отличие от многомерного «характера», формы проявления личности). Бескомпромиссные герои и святые, по-своему привлекательные своим не ведающим сомнения фанатизмом, идеально соответствуют всем сверхзадачам идеологии. Поэтому лучший идеолог – это герой.
Ясно, что героика развивается, психологизируется (то есть в известном смысле гуманизируется, обогащается противоположным, личностным началом), меняются времена, меняя содержание Авторитета, – словом, героика эволюционирует, усложняя и совершенствуя свои типы. Но формула героики при этом остается незыблемой.
Приблизительно до ХVIII столетия в мировой истории личность, в основном, ориентировалась на героическую программу. Поскольку нас в данном случае интересует не история проблемы, а необходимая «рабочая» установка, отметим следующее. Ослабление авторитарного начала неизбежно усиливало начало неавторитарное. В конце концов, к ХVIII веку сложилась такая культурная ситуация, когда героизм как чемпионская стратегия ослабел настолько, что цельность личности можно было восстановить только на принципиально иной основе. На первый план выходит частная жизнь человека, начинается эпоха истинного культа личности (т. е. культа Гуманистических Идеалов). С точки зрения культуры, личность становится полноценным субъектом частной жизни. Ценности человека коренным образом меняются. Начинается художественное (а также философско-этическое, политико-экономическое и т. д.) освоение не героических и связанных с ними трагических и сатирических сторон жизнедеятельности личности, а человеческой самоценности, естественности. На основе идеалов гуманистических (персоноцентристских) возникают принципиально иные пафосы: идиллическо-гуманистический, драматический, юмористический.
Это варианты новой жизненной идеологии, утверждающей ценности из разряда частной жизни. Ценности эти своей обнаженной экзистенциальной сутью разворачиваются именно в сторону частного лица, Ее Величества личности. Новая триада – это героика, трагизм и сатира наоборот. Гуманистическое и Авторитарное поменялись местами, образуя целостность личности на иной основе. Художественные (и – шире – духовные) результаты на «дрожжах» новой идеологии оказались потрясающими. Новые стратегии художественной типизации легли в основу романтизма, а затем и реализма.
Личность – это в значительной степени антигерой (не лже-, а именно антигерой). Без личности социум теряет свою значимость, превращается в начало второстепенное. Выдвижение личности на первый план (персоноцентризм) – это не просто новые художественные возможности (коллизии, сюжеты, типы героев и т. д.); это прежде всего новый тип отношений, который реализует новые духовные возможности. «Хорошо прожить – хорошо спрятаться»: вот новое (хорошо забытое старое, Эпикурово) кредо нового героя. Иными словами в качестве главной задачи ставится задача дистанцироваться от социума, не порывая связей с ним. Личность не враг обществу; она друг себе.
Гуманистическая идиллия – это гармония внутриличностного мира, при которой оказывается возможным совместить интересы социума и личности без ущерба для последних и без прежней агрессивности первых (так как «иррациональный авторитет» уступает место «рациональному»: отчетливо обозначается приоритет культурной регуляции). Частный человек, перестав быть нерассуждающим, нерефлектирующим героем, чрезвычайно обогатился, совместив в себе серьезное отношение к святыням героя и одновременно критическое отношение к ним частного лица. Внутренний мир человека стал вмещать в себя героическое начало, поставленное на службу личности. Это оказалось возможным благодаря диалектически осознанным взаимоотношениям социального и персонального, натуры и культуры в личности. Диалектика обнаружила несостоятельность героической однозначности и лишила трагедию свойственной ей безысходности.
Перед нами совершенно иной уклад гармонии. Если гармония героики покоилась на искоренении всех и всяческих противоречий и абсолютной вере в абсолютные Идеалы, то идиллическая гармония представляет собой динамическое равновесие взаимоисключающих компонентов, и составляющими ее могут быть все виды пафоса – организованные, однако, в духе подчинения «низших» ценностей рационально осознанным «высшим». В данном случае гармония – это организованность, разумная упорядоченность, единство противоположностей (а не иррациональный культ Авторитарного, присущий героике).
2
А теперь вернемся к глубине содержания. Как видим, в художественном содержании вполне возможно обнаружить общую, универсальную точку отсчета: это развитая личность. Дело, если обращаться к примерам, не в Онегине, а в том, что в этой личности реализована всеобщая точка отсчета. Дело не в уникальности Онегина – а в уникальной манифестации универсальности. Почему же в таком случае «Евгений Онегин» стал «программой русского литературного развития (нам неоднократно приходилось писать об этом)?
А он никогда ею и не был в буквальном смысле, несмотря на то, что русская литература развивалась в русле «Онегина». Дело, повторим, в том, что роман в стихах реализовал всеобщую точку отсчета. Пушкин ничего не выдумывал: ситуация «горе от ума» – это оболочка древнего конфликта натуры и культуры. Поэтому броский девиз «Пушкин – это наше все» – это темный лозунг, и больше ничего. До «Онегина» нравственность была привязана к «герою» – то есть к тому, кто общественное ставит выше личного. В этой системе отсчета, как мы помним, чем меньше личного – тем больше героического. Герой нравственен (точнее, морален) в отношении общества. Но тот же герой безнравственен в отношении себя как личности. Герой в лице Онегина сменился Героем Нашего (Нового) Времени, то есть антигероем. Произошла смена вех, смена ориентации с социоцентризма – на персоноцентризм.
В свете сформулированного методологического подхода любопытно было бы посмотреть на некогда славную категорию «народности» в литературе. Народность зиждется на героической идеологии, последняя же так или иначе ставит интересы народа выше интересов личности. Отражение такой идеологии в литературе, то есть применение ее в качестве духовной структуры и доминанты персонажа – в качестве стратегии художественной типизации – превращает эту категорию в духовно-эстетическую, литературоведческую. Целостное завершение эта категория обретает в стиле. Начинает казаться, что народность имманентна самой литературе. Хочется думать, что литература и герой – две вещи нераздельные. В таком случае эталоном будет являться не «Евгений Онегин», а «Капитанская дочка».
Но это, увы, не так. К счастью, не так. Если ставить вопрос об универсальности категории «народность», то необходимо иметь в виду то, что было сказано нами ранее. Развитие литературы постепенно, но неизбежно выдвигает на первый план личность, хотя, надо признать, не устраняет окончательно само понятие народ. Такова логика развития культуры. Здесь нет чьей-то персональной прихоти. Просто констатируем: народный вектор перестал быть определяющим. Само отсутствие этой категории или явная ее периферийность уже не воспринимаются как знак художественной ущербности, неполноценности, несовершенства произведения. Система ценностей, похоже, изменилась необратимо. Даже если мы вернемся к героизму и связанной с ним народности – объективно это будет шаг назад в культурном смысле. Во всяком случае, такими мотивами, как «именем народа» или «во имя народа», сегодня уже невозможно вылепить нечто духовно адекватное запросам эпохи, уровню современной культуры. Героика народного типа – архаична.
Но это не значит, конечно, что выдвижение на авансцену культуры начала противоположного, персонального, автоматически приводит к иному, более впечатляющему художественному результату. Духовное всегда есть предпосылка эстетического – не менее, но и не более того. Можно говорить о перспективности художественного потенциала; разговор же о конкретном художественном результате – всегда конкретный разговор. Глубина образуется вследствие совмещения несовместимого: натуры и культуры. Само вот это глубоко культурное действо или чародейство – совмещение противоположностей – мало еще что проясняет, даже если речь идет о противоречиях, носящих не локальный, поверхностный характер, а – универсальный, глобальный; даже если речь идет о противоречиях натуры и культуры. (А ведь часто, заметим, нам предлагают интерпретацию мелких противоречий, которые являются всего лишь причудливым отражением, отблеском противоречий сущностных.) Глубина может освещаться по-разному – с разной мерой диалектичности, либо затемняющей глубину, либо выявляющей ее безмерность. Глубина – это не константа, а реализованная возможность. Обратимся к примерам, которые помогут прояснить сказанное. При этом не будем ограничивать себя выбором иллюстративного материала, ибо ключевые постулаты должны «срабатывать» везде.
Возьмем произведения В. Сорокина, автора ныне модного, нашумевшего, скандального. Чем же можно прославиться сегодня? Да тем же, чем и вчера. Вот, к примеру, книга «Утро снайпера» (издательство «Ад Маргинем», 2002). Она состоит из рассказов и повестей, сделанных на одну колодку, под один трафарет; и лекала, конечно, прописаны резцом бессознательного. Очень и очень сомнительно, что автор делал свои вещи спустя рукава. Это все, на что способен г. Сорокин, это его предел и потолок. В его масштабах – это просто культурный подвиг. О чем же пишет, я бы даже сказал хлопочет, г. Сорокин, человек, вроде бы владеющий словом? О нем бытует устойчивое мнение: что ни говори – а он умеет писать. Умение писать, обратим внимание, по умолчанию отделяется от того, о чем пишет умелец, от содержания. Можно, дескать, ни о чем написать что-то, и это будет что-то с чем-то.
Так вот скучные и однообразные в плане философско-познавательном модели Сорокина (г.) выстраиваются вокруг одной оппозиции, тиражируемой бесконечно: автор начинает чинно и благородно, с культурного лоска и блеска – и потом все «неожиданно» переведет на г… (это не наша метафора, а весьма знаковая, «смыслонасыщенная» вещь в поэтике г. Сорокина). Такой трюк (культурный оверкиль) – это не пустая фишка коммерциализированной продукции, как могло бы показаться. Это даже не назовешь приемом, то есть свойством стиля (ведь стиль – категория зависимая: он всегда исполняет волю заказчика, реализует заданную «точкой отсчета» «глубину»). Это типично постмодернистское неверие в культуру, редукция мозга к паху (в случае с г. Сорокиным – к анальному отверстию), духа – к инстинктам. Акт посрамления культуры преподносится как глубоко культурный акт, сверхкультурный, стоящий выше культуры. Пост и еще раз пост. Таков подвиг г. Сорокина, личности, конечно, героической. Просто он служит г… – а что делать, если весь мир погряз? Подвиг дурно пахнет – так ведь честность никогда не была белой и пушистой. Это такое рабочее, даже чернорабочее качество, пахнущее потом и кровью. И еще кое-чем. А честность для таких гг. – это не что иное, как истина. Вот вам и точка отсчета. Не фишка, не прием, и даже не эпатаж: Истина. Сорокин весь по уши в истине.
Другие электронные книги автора Анатолий Николаевич Андреев
Девять




 0
0