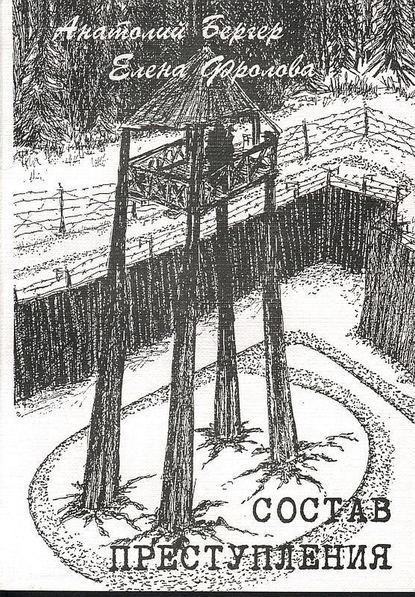По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Состав преступления (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Общее свидание и по сей день вспомнить страшно. Всё те же пересадки, та же мучительная обратная дорога. В Потьме почти на ходу вскакиваешь в переполненный вагон, а дальше уже то ли стоишь, то ли висишь – и так неизвестно сколько станций. После второго личного, на которое ездила с Толиными родителями, стояли в вагоне в проходе, у свекрови из носа пошла кровь, только тогда удалось устроить её на кончик скамейки. А затем, ступая по ногам, перешагивая через чужие вещи, я добиралась до туалета, смачивала платок и обратно – по ногам, через вещи – приложить мокрый платок к носу.
На общем было всё то же – пересадки, штурм вагона, вытряхивающая душу поездка Явас – Озёрное, Озёрное – Явас. И почти тот же – разве чуть полегче рюкзак. Опять надежда, что удастся покормить, а главное – передать тёплые вещи и посылку. При строгом режиме разрешаются лишь две бандероли в год по килограмму каждая и одна посылка в пять килограмм. Так чтобы не уходили драгоценные граммы на ящик, чтобы все продукты были целые и свежие, естественно, везёшь. А общее свидание – всего четыре часа и, самое невыносимое – в присутствии надзирателя.
На этот раз надзирательницей была толстая баба с неподвижным лицом. Думаю, репрессивно-карательная система вывела уже особую породу людей. Ничего человеческого не проступает на этом лице при виде чужого горя. Сесть рядом – нельзя, говорить о чём-то важном невозможно, покормить – не положено. Ну, хотя бы плитку, одну плитку шоколада… Запрещено.
Не знаю почему, тут я не выдержала. Не плакала в другие, более страшные минуты, а тут слёзы.
– Послушайте, Вы же женщина, Вы видите: жена плачет. Ну, съем я эту плитку – ничего же не произойдёт, а ей будет легче, – попытался воззвать к этому каменному изваянию муж.
– Не положено.
После свидания пошла передавать посылку. И тут тоже какая-то запрещающая инструкция. Но теперь я уже не плакала. Распахнув дверь в кабинет опера, с нескрываемой ненавистью я сказала всё, что хотела – и об издевательствах, и о бесчеловечности, и о нарушении всех принципов морали.
Опер тогда был непохожий на своих коллег. Он слушал меня молча, опустив голову, не возражал, не прибегал к привычной для таких должностей демагогии и, когда я кончила, пообещал разобраться.
– А посылку принесите мне, я передам.
Кинулась в дом приезжающих, схватила приготовленные продукты, конечно, не удержалась – прибавила с полкилограммчика. Принесла.
– Будете перевешивать?
– Ну что Вы? Поставьте там.
Уехала довольная хотя бы тем, что удалось передать чуть больше. И всё же тогда мы с мужем решили, что на общие я больше ездить не буду. Три дня дорожных мучений, четыре часа лагерных. Не надо – подождём личного, благо уже недолго осталось.
Поэтому телеграмма из Саранской тюрьмы оказалась полной неожиданностью:
«Если успеешь до пятницы, приезжай на общее свидание».
До пятницы оставалось пару дней. Сборы, билеты. Выехала в Москву и в четверг вечером должна была улететь в Саранск.
Домодедово. Сидим в самолёте, ждём. Полчаса, сорок минут… Объявляют: «Самолёт неисправен. Не полетит».
– Когда же отправка?
– Неизвестно.
А завтра пятница, последний день…
Я уже давно была членом Союза журналистов и, конечно, знала, как действует этот билет Союза на многих. Но до сих пор никогда его не использовала. А тут, выхватив из сумочки свою красную книжечку, во главе пассажиров нашего рейса я бросилась искать начальника аэропорта.
Нашла его дома. Добилась того, что мне дали его домашний телефон. Говорила, видимо, как власть имеющая, иного ведь разговора в таких местах не понимают. Как бы то ни было, но через три часа самолёт был готов к полёту, и утром мы приземлились в Саранске.
Тюрьма. Потом от мужа я узнала, что в политических лагерях вообще такая практика: забирать зэков в саранскую тюрьму «для промывки мозгов», для вербовки. Впрочем, о том, как здесь оказался Толик, и почему было разрешено свидание, я догадалась сразу.
Прежде, чем пустить в камеру, меня принял начальник тюрьмы подполковник Косолапов. Его часовой монолог мне удастся передать лишь выборочно, но зато близко к тексту:
– Я говорю Вашему мужу: почему Вы не хотите нам помочь? Ну, вот видите Вы, как какая-нибудь гидра сбивает с толку молодых парней. Придите, скажите. Ведь от этого всем только лучше будет.
– Вот приходят сюда два брата Залмансоны, – рассказывая о героях так называемого «самолётного дела», евреях, пытавшихся похитить самолёт, чтобы уехать в Израиль, невысокий Косолапов показал на притолоку двери и расставил руки, изображая ширину плеч братьев: – Приходят и говорят: нам с вами разговаривать не о чем, мы ждём-не дождёмся, когда уедем на свою историческую родину. А я им в ответ: «У вас ещё двенадцать лет впереди, идите и подумайте, где ваша родина». Но Ваш ведь муж не собирается уезжать. Он вернётся, будет устраиваться работать, нас могут спросить о нём… Я прямо сказал Вашему мужу: «Вы не любите Вашу семью, Вы не хотите скорее с ними увидеться…»
Весь монолог я молчала. Надо сказать, мне даже вчуже любопытно было послушать все эти доводы, а главное, важно было не испортить, не сорвать свидания с мужем. Но на словах о нелюбви к семье внутри у меня сами собой зазвучали слова некрасовских «Русских женщин»: «Нет, я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. Вот если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть его рабой».
Удивительное всё-таки явление – русская классическая литература. Как она помогала! Казалось, всё, что нужно душе, можно найти в ней. И там, в Большом Доме, когда я говорила следователю, что горечь и страдания за страну в стихах мужа порождены любовью к ней. И в ответ услышав презрительное: «Странная у него любовь», тотчас же откликнулась знакомой строчкой: «Люблю отчизну я, но странною любовью. Не победит её рассудок мой». И тут под аккомпанемент нескончаемых разглагольствований Косолапова зазвучали эти спасительные слова, и можно было передохнуть, расправить плечи.
Тем временем словоговорение, наконец, иссякло. Меня проводили в специально отведённую для встреч комнату.
Свидание было хорошим и даже спокойным. Молодой солдатик не мешал нам говорить, сидеть рядом, я смогла даже покормить Толю. Когда четыре часа истекли, меня снова проводили к Косолапову.
– Ну что, поговорили с мужем?
– Нет.
– А хотите, я завтра снова дам Вам свиданье?
– Не надо. Я уже с детского сада знаю: ябедничать неприлично.
Валька
Может, потому, что мы так нелепо и обидно потерялись, мне хочется назвать её по имени, окликнуть, как тогда, когда на пыльной широкой курагинской улице появлялась её ладная, может, чуть полноватая по городским меркам фигура. Валька…
Сначала мы познакомились с Олегом. Он был невысок, изящен, с выразительным лицом и со знакомыми, как бы почти ленинградскими манерами. Его чуть заметная гордость тем, как он, спецкор краевой газеты, общается с политссыльными, не раздражала, его полузабытый журналистский сленг: «старуха», «лажа» – забавлял. С ним было хорошо говорить о литературе. Оставались в памяти забавные высказывания: «Брюсов много доброго сделал для мужиков» – имелись в виду поэты того времени, но также и точные, умные замечания, суждения о поэзии.
Валю во время этих разговоров я не помню. Скорее всего, она просто молчала и слушала. Но не было напряжённости, не было тягостности в её молчании.
Потом, гораздо позже она скажет: «Ваши взгляды я не понимаю. Но я сразу почувствовала, что вы хорошие люди, а раз так, то и то, за что вы здесь, не может быть плохим».
А пока нам было просто хорошо в её доме. Легко, естественно, уютно.
У Вали была – не от Олега – дочка Катя, такая же светлая, с хорошим русским лицом, как мать. Хотя Валя, наверное, красивее, как-то значительнее. И в то время, пока длилась наша ссылка, у Вали с Олегом родился сын.
А потом начались испытания. Олег уехал. Он так стремился сделать литературную карьеру, так тяготился своим курагинским житьём, а Валя, дети – всё это создавало почти неразрешимые проблемы. И он оставил их, уехал в большой город, начал работать в отделении Союза писателей.
Валя не жаловалась. Красивая молодая женщина, она без жертвенности и позы все деньги тратила на детей. Не баловала, Катька сразу стала нянчить брата. Но покупала также платьица, банты. И дорогие фрукты, и всё вкусное.
В Курагино у нас работал один Толик, и то не всё время. Когда сорвал спину, пришлось оставить работу грузчика, другой же работы ссыльному было не получить. Меня же и вообще никуда не брали. Денег, естественно, было совсем мало, но родители регулярно присылали посылки. И вот как приходила очередная, мы сразу звали Валю поесть вкусный домашний обед. Да и она появлялась нередко со словами: «Слушай, я достала мясо. Придёшь? Приготовишь?»
Так и не знаю, не умела она готовить или не любила, но и у неё готовила всегда я. А Валя садилась за пианино, наигрывала, пела смешные песенки…
Жила она в том доме, где всё партийное начальство. Как-то рассказывает: встретил её на лестнице третий секретарь райкома (третий, как известно, по идеологии), встретил и говорит: «Валентина… – отчества не помню, кажется, Борисовна. – Так вот, – говорит он: – Валентина Борисовна, к вам ходят Бергеры, вы попросите Анатолия, чтобы он прочитал вам те стихи, за которые его посадили». А через пару дней увидела она его и говорит: «Владимир Николаевич, я сказала Толе, что вы хотели, чтобы он прочитал свои криминальные стихи, а он почему-то отказался». – «Ой, Валентина Борисовна, зачем же вы так сказали?»
Но после нескольких подобных разговоров вербовать её в стукачки перестали. Хотя досталось ей больше всех наших друзей. Немцы были сами ссыльные, Райка никакой особой должности не занимала, художник Вадим – в Курагине птица залётная. А вот Валька… Работала редактором на радио, как они говорили, на идеологическом фронте…
Особенно донимали учителя. В маленьких городках, в посёлках – это зачастую самые консервативные люди. Один из них спросил, не боится ли Валя, что ей начнут бить стекла, другой сказал, что больше не пустит к ней свою дочь: «В вашем доме свили гнездо эти осы». (Кстати, с той поры, встречая этого учителя, Толя сразу начинал жужжать).
Боялась ли Валя этих угроз? Конечно. Как всякий человек, живущий в стране Советов, как всякая мать. Тем не менее, дружба наша только крепла.
Приехал Олег. Валька не пустила его домой. Он пришёл к нам, попросил Толю пойти вместе с ним. Было долгое, трудное объяснение.
На общем было всё то же – пересадки, штурм вагона, вытряхивающая душу поездка Явас – Озёрное, Озёрное – Явас. И почти тот же – разве чуть полегче рюкзак. Опять надежда, что удастся покормить, а главное – передать тёплые вещи и посылку. При строгом режиме разрешаются лишь две бандероли в год по килограмму каждая и одна посылка в пять килограмм. Так чтобы не уходили драгоценные граммы на ящик, чтобы все продукты были целые и свежие, естественно, везёшь. А общее свидание – всего четыре часа и, самое невыносимое – в присутствии надзирателя.
На этот раз надзирательницей была толстая баба с неподвижным лицом. Думаю, репрессивно-карательная система вывела уже особую породу людей. Ничего человеческого не проступает на этом лице при виде чужого горя. Сесть рядом – нельзя, говорить о чём-то важном невозможно, покормить – не положено. Ну, хотя бы плитку, одну плитку шоколада… Запрещено.
Не знаю почему, тут я не выдержала. Не плакала в другие, более страшные минуты, а тут слёзы.
– Послушайте, Вы же женщина, Вы видите: жена плачет. Ну, съем я эту плитку – ничего же не произойдёт, а ей будет легче, – попытался воззвать к этому каменному изваянию муж.
– Не положено.
После свидания пошла передавать посылку. И тут тоже какая-то запрещающая инструкция. Но теперь я уже не плакала. Распахнув дверь в кабинет опера, с нескрываемой ненавистью я сказала всё, что хотела – и об издевательствах, и о бесчеловечности, и о нарушении всех принципов морали.
Опер тогда был непохожий на своих коллег. Он слушал меня молча, опустив голову, не возражал, не прибегал к привычной для таких должностей демагогии и, когда я кончила, пообещал разобраться.
– А посылку принесите мне, я передам.
Кинулась в дом приезжающих, схватила приготовленные продукты, конечно, не удержалась – прибавила с полкилограммчика. Принесла.
– Будете перевешивать?
– Ну что Вы? Поставьте там.
Уехала довольная хотя бы тем, что удалось передать чуть больше. И всё же тогда мы с мужем решили, что на общие я больше ездить не буду. Три дня дорожных мучений, четыре часа лагерных. Не надо – подождём личного, благо уже недолго осталось.
Поэтому телеграмма из Саранской тюрьмы оказалась полной неожиданностью:
«Если успеешь до пятницы, приезжай на общее свидание».
До пятницы оставалось пару дней. Сборы, билеты. Выехала в Москву и в четверг вечером должна была улететь в Саранск.
Домодедово. Сидим в самолёте, ждём. Полчаса, сорок минут… Объявляют: «Самолёт неисправен. Не полетит».
– Когда же отправка?
– Неизвестно.
А завтра пятница, последний день…
Я уже давно была членом Союза журналистов и, конечно, знала, как действует этот билет Союза на многих. Но до сих пор никогда его не использовала. А тут, выхватив из сумочки свою красную книжечку, во главе пассажиров нашего рейса я бросилась искать начальника аэропорта.
Нашла его дома. Добилась того, что мне дали его домашний телефон. Говорила, видимо, как власть имеющая, иного ведь разговора в таких местах не понимают. Как бы то ни было, но через три часа самолёт был готов к полёту, и утром мы приземлились в Саранске.
Тюрьма. Потом от мужа я узнала, что в политических лагерях вообще такая практика: забирать зэков в саранскую тюрьму «для промывки мозгов», для вербовки. Впрочем, о том, как здесь оказался Толик, и почему было разрешено свидание, я догадалась сразу.
Прежде, чем пустить в камеру, меня принял начальник тюрьмы подполковник Косолапов. Его часовой монолог мне удастся передать лишь выборочно, но зато близко к тексту:
– Я говорю Вашему мужу: почему Вы не хотите нам помочь? Ну, вот видите Вы, как какая-нибудь гидра сбивает с толку молодых парней. Придите, скажите. Ведь от этого всем только лучше будет.
– Вот приходят сюда два брата Залмансоны, – рассказывая о героях так называемого «самолётного дела», евреях, пытавшихся похитить самолёт, чтобы уехать в Израиль, невысокий Косолапов показал на притолоку двери и расставил руки, изображая ширину плеч братьев: – Приходят и говорят: нам с вами разговаривать не о чем, мы ждём-не дождёмся, когда уедем на свою историческую родину. А я им в ответ: «У вас ещё двенадцать лет впереди, идите и подумайте, где ваша родина». Но Ваш ведь муж не собирается уезжать. Он вернётся, будет устраиваться работать, нас могут спросить о нём… Я прямо сказал Вашему мужу: «Вы не любите Вашу семью, Вы не хотите скорее с ними увидеться…»
Весь монолог я молчала. Надо сказать, мне даже вчуже любопытно было послушать все эти доводы, а главное, важно было не испортить, не сорвать свидания с мужем. Но на словах о нелюбви к семье внутри у меня сами собой зазвучали слова некрасовских «Русских женщин»: «Нет, я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. Вот если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть его рабой».
Удивительное всё-таки явление – русская классическая литература. Как она помогала! Казалось, всё, что нужно душе, можно найти в ней. И там, в Большом Доме, когда я говорила следователю, что горечь и страдания за страну в стихах мужа порождены любовью к ней. И в ответ услышав презрительное: «Странная у него любовь», тотчас же откликнулась знакомой строчкой: «Люблю отчизну я, но странною любовью. Не победит её рассудок мой». И тут под аккомпанемент нескончаемых разглагольствований Косолапова зазвучали эти спасительные слова, и можно было передохнуть, расправить плечи.
Тем временем словоговорение, наконец, иссякло. Меня проводили в специально отведённую для встреч комнату.
Свидание было хорошим и даже спокойным. Молодой солдатик не мешал нам говорить, сидеть рядом, я смогла даже покормить Толю. Когда четыре часа истекли, меня снова проводили к Косолапову.
– Ну что, поговорили с мужем?
– Нет.
– А хотите, я завтра снова дам Вам свиданье?
– Не надо. Я уже с детского сада знаю: ябедничать неприлично.
Валька
Может, потому, что мы так нелепо и обидно потерялись, мне хочется назвать её по имени, окликнуть, как тогда, когда на пыльной широкой курагинской улице появлялась её ладная, может, чуть полноватая по городским меркам фигура. Валька…
Сначала мы познакомились с Олегом. Он был невысок, изящен, с выразительным лицом и со знакомыми, как бы почти ленинградскими манерами. Его чуть заметная гордость тем, как он, спецкор краевой газеты, общается с политссыльными, не раздражала, его полузабытый журналистский сленг: «старуха», «лажа» – забавлял. С ним было хорошо говорить о литературе. Оставались в памяти забавные высказывания: «Брюсов много доброго сделал для мужиков» – имелись в виду поэты того времени, но также и точные, умные замечания, суждения о поэзии.
Валю во время этих разговоров я не помню. Скорее всего, она просто молчала и слушала. Но не было напряжённости, не было тягостности в её молчании.
Потом, гораздо позже она скажет: «Ваши взгляды я не понимаю. Но я сразу почувствовала, что вы хорошие люди, а раз так, то и то, за что вы здесь, не может быть плохим».
А пока нам было просто хорошо в её доме. Легко, естественно, уютно.
У Вали была – не от Олега – дочка Катя, такая же светлая, с хорошим русским лицом, как мать. Хотя Валя, наверное, красивее, как-то значительнее. И в то время, пока длилась наша ссылка, у Вали с Олегом родился сын.
А потом начались испытания. Олег уехал. Он так стремился сделать литературную карьеру, так тяготился своим курагинским житьём, а Валя, дети – всё это создавало почти неразрешимые проблемы. И он оставил их, уехал в большой город, начал работать в отделении Союза писателей.
Валя не жаловалась. Красивая молодая женщина, она без жертвенности и позы все деньги тратила на детей. Не баловала, Катька сразу стала нянчить брата. Но покупала также платьица, банты. И дорогие фрукты, и всё вкусное.
В Курагино у нас работал один Толик, и то не всё время. Когда сорвал спину, пришлось оставить работу грузчика, другой же работы ссыльному было не получить. Меня же и вообще никуда не брали. Денег, естественно, было совсем мало, но родители регулярно присылали посылки. И вот как приходила очередная, мы сразу звали Валю поесть вкусный домашний обед. Да и она появлялась нередко со словами: «Слушай, я достала мясо. Придёшь? Приготовишь?»
Так и не знаю, не умела она готовить или не любила, но и у неё готовила всегда я. А Валя садилась за пианино, наигрывала, пела смешные песенки…
Жила она в том доме, где всё партийное начальство. Как-то рассказывает: встретил её на лестнице третий секретарь райкома (третий, как известно, по идеологии), встретил и говорит: «Валентина… – отчества не помню, кажется, Борисовна. – Так вот, – говорит он: – Валентина Борисовна, к вам ходят Бергеры, вы попросите Анатолия, чтобы он прочитал вам те стихи, за которые его посадили». А через пару дней увидела она его и говорит: «Владимир Николаевич, я сказала Толе, что вы хотели, чтобы он прочитал свои криминальные стихи, а он почему-то отказался». – «Ой, Валентина Борисовна, зачем же вы так сказали?»
Но после нескольких подобных разговоров вербовать её в стукачки перестали. Хотя досталось ей больше всех наших друзей. Немцы были сами ссыльные, Райка никакой особой должности не занимала, художник Вадим – в Курагине птица залётная. А вот Валька… Работала редактором на радио, как они говорили, на идеологическом фронте…
Особенно донимали учителя. В маленьких городках, в посёлках – это зачастую самые консервативные люди. Один из них спросил, не боится ли Валя, что ей начнут бить стекла, другой сказал, что больше не пустит к ней свою дочь: «В вашем доме свили гнездо эти осы». (Кстати, с той поры, встречая этого учителя, Толя сразу начинал жужжать).
Боялась ли Валя этих угроз? Конечно. Как всякий человек, живущий в стране Советов, как всякая мать. Тем не менее, дружба наша только крепла.
Приехал Олег. Валька не пустила его домой. Он пришёл к нам, попросил Толю пойти вместе с ним. Было долгое, трудное объяснение.