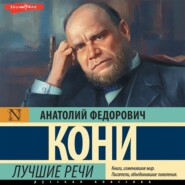По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучшие речи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лучшие речи
Анатолий Федорович Кони
Эксклюзив: Русская классика
Анатолий Федорович Кони (1844–1927) – доктор уголовного права, знаменитый судебный оратор, видный государственный и общественный деятель, одна из крупнейших фигур юриспруденции Российской империи. Начинал свою карьеру как прокурор, а впоследствии стал известным своей неподкупной честностью судьей. Кони занимался и литературной деятельностью – он известен как автор мемуаров о великих людях своего времени.
В этот сборник вошли не только лучшие речи А. Кони на посту обвинителя, но и знаменитые напутствия присяжным и кассационные заключения уже в бытность судьей. Книга будет интересна не только юристам и студентам, изучающим юриспруденцию, но и самому широкому кругу читателей – ведь представленные в ней дела и сейчас читаются, как увлекательные документальные детективы.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Анатолий Кони
Лучшие речи
Серия «Эксклюзив: Русская классика»
© ООО «Издательство АСТ», 2022
I. Обвинительные речи
По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем
12 декабря 1872 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем.
Суть дела состояла в следующем: 15 ноября 1872 г. в реке Ждановке был обнаружен труп женщины, в котором местные жители опознали Лукерью Емельянову, жену Егора Емельянова, служившего номерным в банях.
Емельянов, находившийся с 23 часов 14 ноября 1872 г. за нанесение побоев студенту Смиренскому под стражей, объяснял смерть жены самоубийством, последовавшим «от грусти при предстоявшей ей семидневной разлуке с недавно женившимся мужем». Объяснение было признано удовлетворительным, и тело Лукерьи предано земле. Но вследствие начавшихся разговоров полиция произвела дознание и установила, что Емельянов в присутствии Аграфены Суриной утопил свою жену. Емельянов не признал выдвинутого против него обвинения и объяснил, что Аграфена оговаривает его «за то, что он не женился на ней».
Заседание суда происходило при открытых дверях под председательством товарища председателя К. Д. Батурина, обвинение поддерживал А. Ф. Кони, защищал обвиняемого В. Д. Спасович.
* * *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела; между ними часто встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговариванья и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимою.
Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела; они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, и тело было предано земле, а дело воле божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорилась, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже взятая вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности нисколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, труся, или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие, оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.
Существует ли первое условие в показании Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорилась, по первому толчку, данному Дарьей Гавриловой, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Само поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделалась, – волею или неволею, об этом судить трудно, – свидетельницею важного и мрачного события, она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделалось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, работая в прачечной, спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжкое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницею, и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.
Обращаюсь ко второму условию: может ли показание это иметь своею исключительною целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшною ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого, но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой; это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что, даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельною ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие, но чрез неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы, он опять у нее, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить, – а свидетели показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года, – величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него… Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.
Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовою обстановкою действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания, – сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что, когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этою клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в ноябре, целовался на улице, и не таясь, с Аграфеною. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по нескольку раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно – показаниями служащего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя мирового съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор съезда не бывает, этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показания Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские, добрые отношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться: они должны измениться в ту или другую сторону. На них должна была постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такою силою и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастие упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены, или, напротив, рассудок подчинится страсти, заглохнет голос совести и страсть, увлекая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на средине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно вглядеться в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимый представляется нам на суде; оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.
Лет в 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных» банях. Известно, какого рода эта обязанность; здесь, на суде, он сам и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с 16 лет. У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянное беззастенчивое проявление грубой чувственности. Рядом с этим является добывание денег не действительною, настоящею работою, а «наводкою». Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенною женщиною, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот какова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды, внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззастенчивого проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладеет чувственное желание обладания… Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», неспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно – и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», – стало быть, человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращающийся со своею любовницею, «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю: «Идешь ли?» – прикрикивает он на жену, зовя ее с собою; «Гей, выходи», – стучит в окно, «выходи», – властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих нравственных начал дать не могла.
Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая: «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», – говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться», – прибавил он. Итак, это вот какая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, главное – скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном; она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удержать улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.
Вот такие-то три лица сводятся судьбою вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеною; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотою, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девическою чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодою, невинною женою должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, – это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьей, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая… Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстною натурою, испытавшей житье с Аграфеной? И ему, особенно при его обстановке, приходилось видывать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья – совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно. А тут Аграфена снует, бегает по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать; в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», – т.?е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив… Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукою и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеною и с собою – и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.
Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил плод сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина: «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерьи не было», – сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерьи, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриною, Лукерья передавала ей слова мужа: «тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано – понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но я сама на себя рук накладывать не стану». Видно, мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму – «тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как и что для этого сделать? Убить… Но как убить? Зарезать ее – будет кровь, нож, явные следы, – ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления и т.?д. Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство – утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок, – это время самое удобное, потому, что при обнаружении убийства он окажется под арестом и даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины; когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осеннею и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т.?е. к тому, что она видела Егора, топившим жену; в этом она тверда и впечатление это передает с силою и настойчивостью. Она говорит, что, испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он таки утопил ее; спросила о жене – Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаева удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету, употребить около 20 минут времени.
Нам могут возразить против показания Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих возможных возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т.?д. Вглядитесь в эти два пункта возражений, и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45 градусов. Понятно, что, начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу и если затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается и следов ее не останется: природа сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола куцавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого, а пришел он в участок десять минут одиннадцатого, т.?е. через 25 минут после выхода из дома и минут чрез 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате и затем его уже обыскивают.
Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей; один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней; другой сказал сначала, что всего его обыскивал, и потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув ее голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерьи будет поражена внезапным нападением, – в сильных руках разъяренного мужа не соберется с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одной рукой за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другой нагибал ее голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна одна лишь рука, но перед нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водою, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему делали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей; один говорит, что он посажен в часть в сапогах, другой говорит – босиком; один показывает, что он был в сюртуке, другой говорит – в чуйке и т.?д. Наконец, известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке, – станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?
Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть по-детски легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходить в такое отчаяние, чтобы топиться ввиду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать невозможным, примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей «в Ждановку». Но, живя в России, мы знаем, какое в простом классе жестокое обращение с женой. Оно выражается гораздо грубее и резче, в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и нашуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороной в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказывая и истязая. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказывать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как рассказала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры – у бедной женщины – кофту: для чего же? – чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин[1 - Аршин – старорусская мера длины, равная 71,12 см. Здесь и далее примечания редактора.]. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность… Но чувство самосохранения непременно скажется, – молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому только гибнут под водою, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкою самоубийства, знает, что утопление, а также прыжок с высоты, – два преимущественно женских способа самоубийства, – совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорей, сразу, без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду бросаются, а не ищут такого места, где бы надо было входить в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не вставать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.
Но, быть может, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такою женщиною, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в десять минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дома он вызвал Аграфену, как говорит Николаева. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через 20 минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один на один сладить с Лукерьею, как мог сладить с нею ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной как убийце Лукерьи рушится, и мы приходим к тому, что показание Суриной в существе своем верно. Затем остаются неразъясненными два обстоятельства: во-первых, зачем обвиняемый вызывал Аграфену, когда шел убивать жену, и, во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а вышла баба», и упрекал в том жену, в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому, что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных, подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый – человек самолюбивый, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви – значило бы прямо сказать, что он жену не любит потому, что женился сдуру, не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестье в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презирающим жену, не смогшую до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом – это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, – когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь вымышленную вину, чтоб оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор о жене Аграфене и в решительную минуту при них обеих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.
Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеною Суриною и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить, как добрая, любящая женщина. Напротив, она скорей всего в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности станет дразнить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться – два года водил, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшною тайною. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! Я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же душу Лукерьи загубил…»
Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив, во что бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем, могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же – разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурину то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя… Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другою женщиною, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.
Заканчивая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он со всею строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею женою.
* * *
Решением присяжных заседателей Емельянов был признан виновным «в насильственном лишении жизни своей жены, но без предумышления и по обстоятельствам дела заслуживающим снисхождения». Окружной суд приговорил подсудимого Емельянова к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на восемь лет.
По делу об оскоплении[2 - Скопцы – лица, подвергшиеся полной или частичной стерилизации. Скопчество в дореволюционном уголовном праве составляло преступление, относящееся к группе «религиозных посягательств», и каралось особо сурово. С конца XVIII века начинаются массовые судебные процессы, направленные против скопцов, вследствие чего большинство из них переселилось в Румынию.]купеческого сына Горшкова
Заседание по делу купца второй гильдии Г. Ф. Горшкова состоялось 19 июня 1873 г. во втором отделении Петербургского окружного суда. Горшков обвинялся в том, что, являясь членом скопческой секты, совратил в нее в 1864–1866 гг. своего малолетнего сына Василия и участвовал в его оскоплении.
Председательствовал на заседании К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищал присяжный поверенный В. А. Кейкуатов.
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему суду предан подсудимый Григорий Горшков по обвинению в том, что, сам не будучи скопцом в физическом отношении, т.?е. не будучи лишен своих детородных органов, но принадлежа духовным образом к секте скопцов, вовлек в эту секту своего сына и был не безучастен в его оскоплении. Не скрою от вас, что, приступая к исполнению лежащей на мне обязанности поддерживать это обвинение, я чувствую всю трудность предстоящей мне задачи. Трудность эта состоит не в том, чтобы я сомневался в вашей справедливости, беспристрастии, внимании и, наконец, сознании, что чем опаснее и неуловимее преступление, тем более бдительно общество должно стоять против него на страже. Нет! Трудность эта вызывается тем впечатлением, которое производят вообще дела подобного рода, дела скопческие. Во всех скопческих делах всегда господствует один общий элемент – элемент скрытности. Ничто здесь не высказывается вполне, обо многом умалчивается или не договаривается, благодаря недомолвкам концы легко прячутся в воду, и правосудию приходится распутывать их с большим трудом, борясь со множеством препятствий и имея пред собой свидетелей, которые не лгут прямо, но никогда не говорят прямо и правды. Это свойство скопческих дел существует и в настоящем случае. Если бы пришлось характеризовать большую часть показаний, данных пред вами, то можно смело надписать на них только одни слова: «не знаю», «не помню». Все ничего не знают, все ничего не помнят, начиная от госпожи Горшковой, которая не помнит, смотрела ли она, от чего страдает и погибает 11-летний мальчик – ее сын, и заканчивая Горшковым, который не знает, сколько его сыну лет и когда он родился. Везде «не помню», везде «не знаю»…
Но эта трудность не помешает нам, отбросив всю массу ненужного материала, остановиться на трех существенных вопросах и, разрешив их в том или другом смысле, или оправдать, или обвинить Горшкова. Я думаю, что его надо обвинить, так как ответы на эти вопросы должны быть в пользу обвинения. Вопросы эти следующие: 1) мог ли Горшков не знать об оскоплении своего сына, могло ли совершиться такое оскопление совершенно без его ведома, и справедлив ли рассказ сына Горшкова, что его оскопил солдат Маслов? 2) существует ли между Григорием Горшковым и скопчеством известного рода нравственная связь или Григорий Горшков с тем же естественным чувством брезгливости отворачивается от этой секты, с каким, по словам его жены, он отворачивался даже от своего сына? и 3) если между Григорием Горшковым и скопчеством есть нравственная связь и если без его ведома не могло совершиться оскопление его сына, то не было ли тут его содействия или участия, не он ли вовлек сына в скопчество и способствовал оскоплению его?
Прежде, однако, чем разрешить эти вопросы, я считаю нужным указать на две особенности настоящего дела и в кратких словах изложить пред вами сущность скопчества. Первая особенность та, что пред вами человек не оскопленный, и потому, естественно, в вас может возникнуть сомнение, каким же образом не принадлежащий к скопчеству физически может явиться его распространителем? Другая особенность этого дела та, что пред нами нет потерпевшего от преступления. Быть может, если бы пред нами был молодой Горшков, многое было бы в этом деле для нас ясно. Поэтому – и для выяснения значения этих особенностей необходимо прежде всего взглянуть поближе на скопчество.
Я не сомневаюсь, что вы знаете в общих чертах, что такое скопчество. У всех из нас сложилось о нем понятие как о таком учении, следствием которого бывает нравственное и физическое искалечение человека, доведение его до того физического и морального убожества, в каком вы видели здесь некоторых свидетелей. Но нужно обратиться к сущности этого учения. Скопчество развилось исключительно в России. Как прочно организованная секта оно существует только у нас. Бывают отдельные случаи оскопления и в Европе, но они являются или как способ, безжалостный и жестокий, создать особые голосовые средства у того, кого подвергают в малолетстве этой преступной операции, или как восточный обычай евнушества, тесно связанного с восточным рабством. Как учение скопчество существует только в России. В нашем отечестве, при господстве православной веры, существует, однако, целый ряд самых разнообразных сект или учений. Одни из них отличаются только обрядовой стороной от строго православного исповедания, а в существе правильно относятся к учению церкви и евангелию. Но некоторые из учений, несомненно уклонясь от правил церкви и искажая истинный смысл евангельского учения, доходят до совершенно дикого отрицания существенных и основных законов природы. Такого учения держится преимущественно скопчество. Это – даже не исключительно религиозное, а противообщественное – учение возникло впервые и стало проповедоваться в конце прошлого столетия Александром Шиловым, который подвергся наказанию и погребен в Шлиссельбурге, где могила его считается скопцами священным местом. Как систематическое учение, как секта, правильно организованная и построенная на известных прочных началах, скопчество явилось только в царствование императора Александра I, когда проживал, преимущественно в Петербурге, скопец Кондратий Селиванов, человек неграмотный, но умный, хитрый и обладавший весьма важным свойством для всякого проповедника нового учения – настойчивостью и умением подчинять себе окружающих людей. Исходя из ложно понимаемых им текстов евангелия о соблазняющем оке и о том, какие бывают скопцы, толкуя их не в связи с остальными местами евангелия и извращая их слишком узким материальным толкованием, он учил, что человечеству было указано учением Спасителя не нравственное совершенство духа, а грубое искалечение тела, как средство борьбы с грехом, что Спаситель осветил путь исправления человечества именно таким образом. Он учил, что этот надлежащий путь исправления состоит не в восприятии высокого учения евангелия, которое заключается прежде всего в любви к ближнему, а в стремлении уйти от этого ближнего, удалиться и бежать от красоты, от «лепости» и бежать притом не нравственно, не стараясь бороться, а бежать малодушно, физически, посредством изувечения самого себя. Далее Селиванов находил, что все несчастия в жизни происходят от половых побуждений и что их нужно пресечь в самом их корне. Для этого он требовал от своих последователей, чтобы они вели постническую жизнь, не пили вина, не ели мяса, старались удаляться от всякого соблазна, от всякой «лепости» и, постепенно проходя все степени скопческой иерархии, садились бы сначала «на серого коня» и принимали «малую печать», т.?е. лишились бы ядер, а впоследствии приобретали «большую печать», т.?е. лишались бы вообще детородных органов. Приняв «большую печать», последователи Селиванова становились «убеленными», грех не мог их более коснуться, в них замирала всякая мысль о нем, и они делались «белыми голубями» или «белыми овцами». Это учение, несмотря на все свои противоестественные правила и задачи, нашло последователей. Простота рекомендуемого им способа борьбы с грехом и вечным осуждением, борьбы, не требующей постоянных усилий и напряжения душевных сил, а лишь одной физической жертвы, имела особую привлекательность для робкого ума неразвитых людей. А учение Селиванова было направлено на неразвитую массу, которая не может правильно толковать святое писание, следуя только его букве, а не духу. Из этой массы скопчество вербовало большую часть своих приверженцев. В настоящее время последователи Селиванова сплочены в прочную массу, они следуют наставлениям своего учителя, для них этот учитель составляет верховного главу, наместника бога, «Искупителя». Для них он почти заменяет Христа, для них лик божественного страдальца, проповедовавшего живую, всепрощающую любовь к своему ближнему, отошел на задний план. Христос не вполне исполнил свою задачу, говорят они; Селиванов – вот настоящий Христос, он не только царь небесный и искупитель, но – и на этом отразилось стремление русского народа в конце прошлого века создавать самозванцев – он вместе с тем и император Петр III, который скрывался от преследований под именем Селиванова. Как император Петр III и как батюшка-искупитель, он соединял в себе высшую духовную и светскую власть. Правда, Селиванов был преследуем, последователи его гонимы, но придет время, когда он вернется на землю к своим «детушкам» и водворит скопческое царство на Руси. К Селиванову сводится вся история скопчества, с него она начинается и в его жизни черпает свой главный материал. У скопцов нет священных книг, а все передается на словах. От Селиванова, от его имени, от его страданий, подобно лучам, расходится ряд стихотворных легенд, так называемых «распевов», в которых Петербург прославляется как Сион, как «святой пресветел град», Селиванов – как мученик, пострадавший за веру, и которые поются на сходбищах скопцов, называемых радениями.
В чем состоят эти радения – это долго описывать в подробности. Главным образом они заключаются в том, что эти люди, так ложно понимающие жизнь и ее требования, сходятся вместе, одеваются в длинные халаты, зажигают свечи и под пение распевов, в которых воспеваются «страды» Селиванова, начинают быстро вертеться в одиночку, сходиться накрест, двигаться плечом к плечу, кружиться рядами и приходить, наконец, в сильнейший экстаз. Вертясь все быстрее и быстрее, они впадают в полубессознательное состояние, пот льет с них ручьями, развевающаяся одежда иногда даже тушит свечи и тогда, посреди всеобщей усталости и полного душевного опьянения, кто-нибудь один из сильно возбужденных радеющих начинает изрекать бессмысленную связь слов, с механическим подбором рифм, что и составляет пророчество. Это состояние опьянения сами скопцы описывают очень характеристично: «То-то пивушко, – говорят они про радение, – человек и не телесными устами пьет, а пьян живет».
Внутреннему содержанию скопчества – странному и дикому – соответствует обрядовая сторона, выражающаяся и в радениях, и в известного рода обычаях и символах, составляющих неразлучную принадлежность замкнутого скопческого житья. Ему соответствует, к сожалению, в большей и высшей степени и вся личная жизнь скопца. Известно, что природа не прощает нарушения своих законов, и давно уже высказана та истина, что человек главным образом потому несчастлив, что забывает про законы природы. Это выражение всего более применимо к скопцам. Вслед за оскоплением начинается изменение оскопленных в физическом отношении: они хиреют, в них перестает обращаться с прежней живостью кровь, лицо делается бледным и опухлым, в движениях видны бессилие и усталость, отсутствие аппетита, прекращается всякая растительность на бороде и усах, – одним словом, является совокупность тех признаков, которыми, по общему народному убеждению, характеризуется личность скопца. Поэтому мне незачем описывать тип скопца, он слишком известен, он слишком определенный тип, чтобы нуждался еще в каком-либо описании. Произведенные в последнее время исследования над физическим состоянием скопцов, преимущественно нашим известным ученым Пеликаном, показали, что даже самые кости скопца изменяются под влиянием оскопления, совершенного в ранних летах, что они приобретают размер, гораздо ближе подходящий к костям женщины. Вообще, приближаясь по своему виду к женщине, вместе с тем скопцы утрачивают и все хорошие свойства мужчины. Таким образом, в них исчезает мужество, прямодушие, энергия, но при этом они не приобретают и хороших женских свойств: в них нет ни мягкости характера, ни нежности, ни горячей любви, а все заменяется сухостью в обращении, крайней черствостью, отчуждением от людей, сознанием, что все остальные люди им чужие, что все они стоят не на надлежащей дороге, сознанием, что они отделены от всех людей непроницаемой стеной и что только в помыслах об искупителе Селиванове они могут находить утеху. Среди «труждающихся и обремененных», наполняющих общество, в котором живут скопцы, они стараются приурочивать себя к такому делу, при котором без особого труда получают возможность забирать в руки людей нуждающихся и – копить деньги, одну из немногих утех, оставшихся им в жизни. Занятие их – преимущественно меняльная торговля и биржевые операции. Вы, конечно, знаете, что занятие меняльной торговлей принадлежит, в глазах народа, к одному из присущих скопцам признаков. Жизнь их – скучная, мрачная, сухая, черствая, без любви и ее радостей – проходит в занятиях преимущественно меняльной торговлею и в радениях. Но иногда однообразие этой жизни, и, к сожалению, довольно часто, нарушается явлениями радостными, светлыми. Это прием новых членов в секту.
Ни одна секта, как это замечено последователями нравственной стороны скопчества, – и в этом они сходятся с учеными исследователями физической стороны скопчества, – ни одна секта не отличается таким страстным стремлением к вербованию себе адептов, ни в одной секте не существует такой радости, такого стремления пожертвовать всем, чем можно, чтобы только приобрести лишнего человека и отнять его у действительной жизни. Для этого скопцы не останавливаются ни пред чем: обещания, ласки, подкуп взрослых, угрозы и насилия над малолетними и в широком смысле пользование невежеством, неграмотностью, бедностью народа – все это пускается в ход и служит для того, чтобы завербовать себе новых товарищей по увечью. Эта-то сторона скопчества и представляется самой главной и опасной. До сих пор не определено, да трудно и определить, что руководит скопцами в этом отношении. Едва ли можно думать, что одно только желание приобщить других к предполагаемому «скопческому» вечному блаженству заставляет их приобретать сообщников. Я думаю, и этого же мнения держатся многие исследователи скопчества, что здесь кроется болезненное желание видеть около себя побольше таких людей, как они сами, с которыми бы можно было разделить тягости своего существования, разделить это отсутствие всяких радостей, эту бесцветность жизни. В таких случаях, как я сказал, скопцы выказывают замечательную деятельность и обыкновенно выделяют из себя известную группу людей, которые преимущественно занимаются подобного рода делами. Для того, чтобы явиться распространителем скопчества, чтобы привлекать в скопческую ересь возможно большее количество людей из мира, нельзя быть скопцом вполне; от скопца всякий будет сторониться. Скопец не может, по самому существу своему, по своей отчужденности от мира, представить так живо, так заманчиво все прелести скопчества, сопоставив их с огорчением, причиняемым житейской «слепотой», не может указать так ясно на тот вред, на ту опасность, которую представляет женщина. Для этого нужен человек, который сам стаивал бы в таком опасном положении, – такой человек с большей энергией будет обращать в скопчество, такой совратитель подвергнется меньшей опасности, если он будет открыт, потому что всегда естественнее и предполагать, что принадлежащей к секте хочет распространять ее. Но когда он является неоскопленным, тогда власть невольно призадумается, – явится мысль, что если человек сам не вкусил скопчества, то зачем он будет совращать других в эту ересь? Наконец, попадают в эту организацию по большей части люди бедные. Приобщаясь к скопчеству и получая на руки деньги, эти люди могут быть весьма полезными распространителями печального учения. Они неоскоплены, энергии у них поэтому много, они бедны, и потому деньги могут послужить хорошим орудием для обращения их в рабство, во имя и во славу «батюшки-искупителя». Мне могут сказать, что это только предположения. К сожалению, это не предположения. Я думаю, что сам защитник не откажется подтвердить, что на эту сторону указывают все исследователи скопчества. Наконец, лучше всего указывает на это самая жизнь. Мы знаем, что скопчество располагает не только агентами, которые далеко не все бывают оскоплены, но мы знаем, что даже глава современного скопчества, который по влиянию равняется почти с Селивановым, который был его преемником в этом отношении, известный моршанский купец Плотицын, скопивший миллионы, державший в своей власти целый уезд, глубокий и систематический распространитель скопчества, при освидетельствовании оказался неоскопленным. При обсуждении скопческих дел всегда нужно иметь в виду, что в среде скопчества бывают лица, которые, вполне разделяя это учение, страха ради иудейского или по телесной слабости, не решаются оскопиться, но делаются только ревностными и хорошими проводниками скопчества, и они-то и представляются наиболее опасными членами этой секты.
Я закончил тот необходимый краткий очерк, который хотел вам представить. Он, конечно, не полон, но основные черты его, смею думать, верны. Мне, однако, думается, что необходимо обратиться еще к одной мысли, которая, может быть, будет высказана в нашей среде, господа присяжные, при всестороннем обсуждении настоящего дела. Могут сказать, что преследование сект, подобных скопческой, является нарушением свободы совести, что у человека, как бы он ни был связан с государством, как бы тесно ни соприкасался с обществом, в котором живет, должна быть известная область душевной свободы, в которую никто не имеет права заглядывать и не должен вторгаться, область, вступая в которую общество и государство должны складывать оружие и являться, в крайнем случае, только наблюдателями. Могут сказать, что человек волен бороться с греховными побуждениями теми средствами, которые ему кажутся наилучшими, лишь бы они не затрагивали интересов других людей. Но, господа присяжные заседатели, если бы дело шло о преследовании тех 58 чухон[3 - Чухна – название эстонца или фина, проживавших в окрестностях Петербурга.], о которых говорилось в прочитанных здесь письмах Горшкова, тех, которых неразумие, невежество, нищета, бедность, скудость природы и тяжкие семейные условия толкнули на скопчество, которые сами не ведали, что творят, давая себя оскопить, то эти соображения могли бы иметь место как призыв к особому снисхождению к жертвам фанатического заблуждения. Если бы дело шло о зрелом человеке, который сознательно и свободно, обдуманно и спокойно, по чувству искренней веры, оскопил себя, можно бы говорить об этой неприкосновенной области и спорить относительно ее границ. Но там, где дело идет о распространении скопчества, о сознательном вовлечении в эту секту слабых людей, придавленных судьбою или не обладающих здравым разумением, там слово «свобода совести» является только громким словом, которым можно злоупотреблять без всякой пользы для разъяснения дела. Притом скопчество вовсе не является исключительно религиозным учением, противным православию. На это уже достаточно указывает то, что оно одинаково распространяется не только между православными, но и между лютеранами – финнами. Оно является, по способам своего распространения, по среде, в которой оно вербует своих вольных и невольных приверженцев, учением противообщественным. Нам известно, что христианство у скопцов на заднем плане, напротив того, отчуждение от ближнего, отпадение от общества, отрицание семьи, которая есть основание общества, – вот, что стоит на первом плане. Это учение скорее всего направлено против общества, а не против религии.
Посмотрите, среди кого распространяется скопчество, на кого оно старается действовать. Опять я сошлюсь на этих 58 чухон, дело о которых разбиралось в Петербургском окружном суде два года назад. Вы знаете ту унылую, суровую и скудную природу, среди которой живут эти люди: кочковатые болота, кривые березы, мхи, жалкий климат – все это при экономической подавленности и неразвитости, при вопиющей нередко бедности ложится на них тяжелым бременем, делает их жизнь горькой. И вот тут, где религиозное развитие слабо, где семья скорее тягость, чем утешение, является скопчество. Но разве оно рисует им лучшую жизнь и счастие? Нет, нисколько. Да этого и не нужно! Зачем говорить о будущем, каким его представляет Селиванов, а не прямо указать на те средства, которые можно получить, если перейти в скопчество, на возможность получить лошадь, корову, на возможность жене одеться, детям не голодать. И вот совращение совершено. Затем посмотрите на другую среду, в которой распространяется скопчество. Это – дети, существа, которые зависимы, неразвиты, нередко ничего не понимают. Они в полной зависимости от родительской власти, особенно при тех условиях, в которые поставлена родительская власть в низшем слое населения. Можно зачастую совершенно безопасно и невозбранно насиловать их, вовлекая в скопчество и губя их еще не сложившуюся жизнь. Вот почему, я полагаю, что не в самооскоплении, не в принадлежности к скопчеству, не в этой жалкой приверженности к скаканию и пению рифмованного набора слов состоит зло скопчества, а в его силе распространения, в стремлении его вербовать… Это и не мой только личный взгляд. Наше высшее судебное учреждение, Кассационный Сенат, обратил внимание на скопческую секту, и вот как он о ней говорит: «Государство не может допускать организации обществ, употребляющих для достижения своей цели средства, противные нравственности и общественному порядку, хотя бы такие общества и прикрывались религиозными побуждениями; в скопческой же ереси ясно преобладает противообщественный элемент, а элемент религиозный представляет совершенное извращение не только православия, но христианской веры вообще». Ввиду этих слов высшего судебного учреждения, ввиду тех условий скопчества, на которые я указал, мне кажется, что возражение, будто распространению скопчества не надо полагать твердых пределов, не имеет правильного основания. Обращаюсь собственно к существу настоящего дела.
Первый вопрос по существу дела заключается в том, мог ли Горшков не знать, что его сын оскоплен? Можно ли было это сделать без его ведома, и справедлив ли рассказ его сына? Полагаю, что рассказ этот совершенно несправедлив. Разберем, в чем он состоит, кстати, разберем и рассказ матери. «Пошли на богомолье, отстал, подошел неизвестный солдат, предложил пряник, я съел пряник, упал без чувств, проснулся – отрезаны ядра; пошел в Курск, встретил на рынке мать; приехав в Петербург, отцу ничего не говорил, чрез два года поехал в Курск, там судился и, приехав, привез отцу копию приговора». Вот сущность его рассказа. Но стоит немножко вдуматься в операцию оскопления, чтобы понять, что этот рассказ неправдоподобен. Не говоря о том, что то, что рассказывает молодой Горшков курской уголовной палате, невероятно с физической стороны, оно невероятно и с нравственной стороны. Оскопить таким образом человека вдруг, ни с того, ни с сего – это невозможно. Оскопить человека для того только, чтобы оскопить, значит совершить деяние без смысла и цели, даже со скопческой точки зрения. Скопцы стремятся к тому, чтобы приобресть людей, которые сознательно принадлежали бы к скопчеству или, по крайней мере, выросли бы в нем. Поэтому оскоплению чуждою рукою взрослого человека предшествует известное внутреннее соглашение, всегда тот, кто оскоплен, еще до оскопления духовно сливался с скопчеством, но он был слаб, он был нерешителен относительно «принятия печати», и в этом ему помогла посторонняя рука. Если же это дети, то, без сомнения, ряд внушений, приказаний и принуждений предшествует этому акту – бессмысленному и бесчеловечному. Оскопить несчастного ребенка, накормив его каким-то пряником, и затем потерять его из виду – разве не все равно, что отрезать человеку нос или отрубить руку во время сна? Ведь это будет только увечье, которое само по себе не имеет ничего общего с учением скопчества. Посмотрите на эту операцию с физической стороны. Каждому лицу мужского пола известно, как чувствительны половые органы, как мало-мальски сильный толчок в них причиняет жестокие боли, а более сильный может вызвать смерть. Всякое насилие над этими органами должно причинять тяжкие страдания, всякий разрез, произведенный грубо и торопливо, должен произвести сильную потерю крови, привести человека в ужасное нервное состояние, должен почти совершенно парализировать его движения. Сначала человек оскопленный не только не будет мочь идти, но долгое время будет на одном месте истекать кровью и только через значительный промежуток времени будет иметь возможность кое-как двигаться. Между тем мы видим тут ребенка, мальчика, который наутро после оскопления встал и явился в Курск. Он выздоровел так скоро, что чрез две недели, а мать даже говорила – чрез одну неделю его везут в Петербург, и притом не по железной дороге, а со всеми неудобствами былого времени, в тарантасе[4 - Тарантас – четырехколесная конная повозка на длинных дрогах (продольной раме), уменьшающих дорожную тряску в длительных путешествиях.] или на перекладной до Москвы. По прибытии его в Петербург там тоже никто не замечает его страданий, никто не видит, что с ним сделалось. Но припомните анатомическое строение половых органов: сколько в них кровеносных сосудов, как чувствительны эти органы. Если уж обыкновенная рана нередко вызывает сильные страдания, сопровождается большим истощением вследствие потери крови и заживает медленно, то рана, нанесенная в такую часть тела, где скопляются кровеносные сосуды, скоро, на другой день, не заживет и не закроется. Поэтому и с физической стороны заявление Горшкова несправедливо. Заявление матери его еще менее правдиво. Эта мать, узнав из слов сына, что его «испортили», не полюбопытствовала даже узнать, что именно с ним сделалось, не занялась его лечением, не расспросила его, а просто сказала какой-то неизвестной Пелагее Ивановой, которая чем-то и примачивала Василию больное место. Но отчего же по приезде в Петербург она не заявила об этом мужу? Отчего она не заявила никому на месте? Ведь в ней должно было прежде всего заговорить материнское чувство. Ведь тут на первом плане вред, болезнь, горе, причиненное сыну. Тут произошло лишение на всю жизнь одной из существеннейших способностей, и она, женщина в летах, не могла этого не понимать. Она должна была быть лично огорчена и убита всем, сделанным с ее сыном. То, что произошло с ним, в самой вялой и апатичной матери, – если только она мать действительно, – должно было возбудить негодование, слезы… Она должна была идти в полицию, жаловаться, заявить, тем более, что все случилось тут же, около, на месте. Допустим, наконец, что она, как женщина, под влиянием горя, потерялась, не нашлась, что сделать. Но у нее есть муж, человек деловой, энергический; он бывший управляющий богатого помещика, который имеет связи, он пойдет к нему, попросит помощи, содействия, заступничества, поднимет на ноги полицию, и тогда разыщут лихого человека, тогда за сына отомстят. Однако она молчит перед мужем. Она, по ее словам, боялась, что он забранит ее. За что же забранит? За то, что неизвестный человек оскопил ее сына, которого оттеснила от нее толпа на крестном ходу. Есть ли тут сколько-нибудь здравого смысла? Поэтому рассказ Горшковой лжив. Но такой рассказ встречается очень часто. Я нарочно здесь спрашивал одного из скопцов о том, как его оскопили, и он нам рассказал такую же историю, которая повторяется всеми: это старая история, но в устах скопцов она всегда остается новою. «Солдат шел… дал напиться… упал… заснул… отрезал… не помню как… проснулся… пошел домой… никому не заявил… боялся…» Рассказ не так прост, как кажется с первого раза, он является результатом определенной системы действия и отражается на целом ряде судебных приговоров старых судов, что доказывает, например, и дело Маслова, на которое я ссылался. Скопцы не могут страдать все за участие в оскоплении того или другого лица, им необходимо сплотиться и держаться крепче друг за друга, для этого нужно принести одну, общую за всех, жертву, выставить кого-нибудь одного из своих, и в этом отношении у них существует особая система действий. Всякий исследователь скопчества, всякий юрист, знакомый с делами старых времен, скажет вам, господа присяжные, что по временам в той или другой местности России, преимущественно в Орловской и Курской губерниях, появлялись люди, которые заявляли, что они оскоплены, показывали на известное лицо, которое иногда даже являлось вместе с ними и принимало на себя вину свершения над ними оскопления. По большей части это бывал какой-нибудь отставной солдат, дотоле питавшийся подаянием. Лицо это сажали в острог, и тогда-то начинали слетаться со всех концов «белые голуби», заявляя, что они были оскоплены, что их оскопил при таких-то обстоятельствах какой-то неизвестный солдат. Обстоятельства эти всегда были одни и те же: «Шел… напоил… оскопил…» и т.?д. Им показывали содержавшегося в остроге, и он чистосердечно, иногда со слезами, сознавался, что действительно он оскопил всех этих лиц. Скопцы эти прибывали целыми массами, так что, наконец, целое стадо этих «белых овец» собиралось вокруг этого злого волка, который их изувечил… Его ссылали в Сибирь, а их, как невинно оскопленных, оправдывали. Эту систему можно с очевидностью проследить по делу Маслова. Оно началось с 1865 года. 16 марта 1865 года к судебному следователю города Курска явились три лица и заявили, что они оскоплены солдатом Масловым; вместе с ними явился и сам солдат Маслов и сказал, что действительно он оскопил этих лиц. Если вы будете перелистывать это огромное, лежащее ныне пред вами, старое дело, то увидите постоянное повторение одного и того же протокола: явился такой-то, заявил, «что оскоплен Масловым, Маслов сознался в том, что действительно оскопил это лицо», затем новоявившегося свидетельствовали, нашли малую печать, отдали на поруки и т.?д.
Потом явился другой, третий, и всего набралось – 114 человек!! Их всех в промежуток года с небольшим успел оскопить, по собственному признанию, Маслов… Таким образом, набрав на себя грехи 114 скопцов, он отправился в Сибирь, не пострадав сильнее от этого принятия на себя не одного, а целой сотни оскоплений потому, что наказание за оскопление полагается одно и то же, невзирая на число оскопленных. Все заявившие лица сделались свободными от суда и получили в том удостоверение. В числе этих лиц был Василий Горшков. Людей вроде Маслова было в последние годы несколько. Пред Масловым был в том же Курске Чернов или Черных, на которого, как на оскопителя, сегодня перед вами сослался один из свидетелей скопцов. Он повинился, по вышеприведенному способу, в 106 оскоплениях; Маслова сменил ныне в курском остроге новый великодушный охранитель скопчества – Ковынев. Таким образом, рассказ Василия Горшкова представляется совершенно соответствующим этой системе.
Тех ссылок, которые я сделал на дело Маслова, достаточно для того, чтобы признать, что рассказ Василия Горшкова и матери его несправедлив. Тогда остается один вывод: он оскоплен не Масловым и оскоплен не при матери, в Курске. Но если так, то где же он оскоплен? Ему было 11 лет, он только раз отлучался с матерью в Коренную пустынь, а все время жил в Петербурге, при отце. Нельзя же допустить, чтобы 11-летний мальчик отлучался один на долгое время из Петербурга. Вы слышали из обвинительного акта, что, по словам Горшкова, он первоначально узнал об оскоплении сына тогда лишь, когда сын предъявил ему приговор палаты, т.?е. в 1866 году. Здесь, на суде, он изменил это показание и говорит, что он узнал об этом от жены, когда сын ушел с Пелагеею искать «того человека». Это изменение совершенно понятно, потому что иначе ему пришлось бы утверждать, что сын его, 13-летний ребенок, без ведома отца ездил один в курскую уголовную палату для выслушания приговора и дачи показания. Но слишком несообразно с здравым смыслом допустить, чтобы 13-летний ребенок один поехал в Курск выхлопатывать себе обвинительный или оправдательный приговор. Василий Горшков все время до получения приговора и потом года три жил в Петербурге, и жил при отце. Это мы знаем из дела и из свидетельских показаний. Но если он не оскоплен в Курске, то он нигде не мог быть оскоплен, кроме Петербурга.
Если допустить, что его оскопили в Курске, то невольно приходится спросить себя, как могло укрыться от отца, что он оскоплен, что он, особенно первое время по приезде из Курска, страдает? Как он мог скрыть это от отца, с которым жил, от тех детей, с которыми бегал, как мог он скрыть это в бане, в которую являлся с отцом? Это невозможно. Он не мог бы скрыть следы заживавшей раны, не мог бы скрыть ту неровную походку, которая присуща скопцам. Мы должны предположить отсутствие у отца его всякой наблюдательности, всякого внимания к сыну, всякого отцовского чувства, когда он не замечает, что у малолетнего сына, при наступлении зрелости, голос не становится мужественным, а дребезжит и делается скопчески-писклив, когда он не замечает, что вместо того, чтобы, возрастая, румянеть и цвести, сын делается хилым, вялым и худеет, что глаза его не блестят, походка шатка и неровна и, наконец, что у сына нет ни детской веселости, ни шалостей, ни юношеского задора. Всего этого отец не мог не заметить, а если он не мог этого не заметить, то он и не мог не знать, что сын его оскоплен. Если же мы допустим, что он не мог этого не знать и признаем, что сын был оскоплен не в Курске, то следует признать, что совершить оскопление 11-летнего сына богатого и энергического человека в Петербурге невозможно без ведома этого человека. Как можно, без ведома отца, нравственно оторвать ребенка от семьи и внедрить в него скопческие мысли, как можно оскопить его незаметно, неслышно для отца? Таков ответ на первый вопрос. Притом, мы знаем из показаний Васильева, данных здесь на суде, вдали от майора Ремера, которого он будто бы так боялся прежде, и вблизи от присяги, которой он так боится теперь, что малолетний Горшков проговаривался, что он оскоплен, и говорил что-то такое о распевцах и о радениях. Но если он знал о радениях, то, значит, он их и посещал. Но мог ли 12–13-летний ребенок посещать радения, которые бывают ночью, без ведома отца, потихоньку, самовольно? Мог ли отец не знать о том, что сын испытал, что такое радение?!
Анатолий Федорович Кони
Эксклюзив: Русская классика
Анатолий Федорович Кони (1844–1927) – доктор уголовного права, знаменитый судебный оратор, видный государственный и общественный деятель, одна из крупнейших фигур юриспруденции Российской империи. Начинал свою карьеру как прокурор, а впоследствии стал известным своей неподкупной честностью судьей. Кони занимался и литературной деятельностью – он известен как автор мемуаров о великих людях своего времени.
В этот сборник вошли не только лучшие речи А. Кони на посту обвинителя, но и знаменитые напутствия присяжным и кассационные заключения уже в бытность судьей. Книга будет интересна не только юристам и студентам, изучающим юриспруденцию, но и самому широкому кругу читателей – ведь представленные в ней дела и сейчас читаются, как увлекательные документальные детективы.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Анатолий Кони
Лучшие речи
Серия «Эксклюзив: Русская классика»
© ООО «Издательство АСТ», 2022
I. Обвинительные речи
По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем
12 декабря 1872 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем.
Суть дела состояла в следующем: 15 ноября 1872 г. в реке Ждановке был обнаружен труп женщины, в котором местные жители опознали Лукерью Емельянову, жену Егора Емельянова, служившего номерным в банях.
Емельянов, находившийся с 23 часов 14 ноября 1872 г. за нанесение побоев студенту Смиренскому под стражей, объяснял смерть жены самоубийством, последовавшим «от грусти при предстоявшей ей семидневной разлуке с недавно женившимся мужем». Объяснение было признано удовлетворительным, и тело Лукерьи предано земле. Но вследствие начавшихся разговоров полиция произвела дознание и установила, что Емельянов в присутствии Аграфены Суриной утопил свою жену. Емельянов не признал выдвинутого против него обвинения и объяснил, что Аграфена оговаривает его «за то, что он не женился на ней».
Заседание суда происходило при открытых дверях под председательством товарища председателя К. Д. Батурина, обвинение поддерживал А. Ф. Кони, защищал обвиняемого В. Д. Спасович.
* * *
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела; между ними часто встречаются дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговариванья и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается неразрешимою.
Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела; они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, и тело было предано земле, а дело воле божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорилась, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже взятая вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности нисколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, труся, или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие, оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.
Существует ли первое условие в показании Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорилась, по первому толчку, данному Дарьей Гавриловой, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Само поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтверждение этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделалась, – волею или неволею, об этом судить трудно, – свидетельницею важного и мрачного события, она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделалось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, работая в прачечной, спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжкое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницею, и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.
Обращаюсь ко второму условию: может ли показание это иметь своею исключительною целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшною ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого, но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой; это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что, даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельною ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие, но чрез неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы, он опять у нее, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить, – а свидетели показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года, – величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него… Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.
Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельствам дела, подтверждается ли бытовою обстановкою действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей поверить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания, – сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что, когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этою клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в ноябре, целовался на улице, и не таясь, с Аграфеною. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по нескольку раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно – показаниями служащего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя мирового съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор съезда не бывает, этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит, что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома, но он был не в съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурину в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что идет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показания Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские, добрые отношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться: они должны измениться в ту или другую сторону. На них должна была постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такою силою и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастие упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены, или, напротив, рассудок подчинится страсти, заглохнет голос совести и страсть, увлекая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на средине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно вглядеться в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимый представляется нам на суде; оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.
Лет в 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных» банях. Известно, какого рода эта обязанность; здесь, на суде, он сам и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с 16 лет. У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянное беззастенчивое проявление грубой чувственности. Рядом с этим является добывание денег не действительною, настоящею работою, а «наводкою». Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенною женщиною, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот какова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды, внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззастенчивого проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладеет чувственное желание обладания… Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», неспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно – и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», – стало быть, человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращающийся со своею любовницею, «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю: «Идешь ли?» – прикрикивает он на жену, зовя ее с собою; «Гей, выходи», – стучит в окно, «выходи», – властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих нравственных начал дать не могла.
Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая: «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», – говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться», – прибавил он. Итак, это вот какая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, главное – скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном; она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удержать улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.
Вот такие-то три лица сводятся судьбою вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеною; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотою, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девическою чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодою, невинною женою должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, – это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьей, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая… Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстною натурою, испытавшей житье с Аграфеной? И ему, особенно при его обстановке, приходилось видывать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья – совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно. А тут Аграфена снует, бегает по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать; в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», – т.?е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив… Он знает при этом, что она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукою и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеною и с собою – и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.
Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил плод сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина: «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерьи не было», – сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерьи, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриною, Лукерья передавала ей слова мужа: «тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано – понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но я сама на себя рук накладывать не стану». Видно, мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму – «тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как и что для этого сделать? Убить… Но как убить? Зарезать ее – будет кровь, нож, явные следы, – ведь они видятся только в бане, куда она приходит ночевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления и т.?д. Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство – утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок, – это время самое удобное, потому, что при обнаружении убийства он окажется под арестом и даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется рассказом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто даже как посторонний зритель бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины; когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осеннею и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т.?е. к тому, что она видела Егора, топившим жену; в этом она тверда и впечатление это передает с силою и настойчивостью. Она говорит, что, испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он таки утопил ее; спросила о жене – Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаева удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету, употребить около 20 минут времени.
Нам могут возразить против показания Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих возможных возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т.?д. Вглядитесь в эти два пункта возражений, и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45 градусов. Понятно, что, начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу и если затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается и следов ее не останется: природа сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола куцавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования. Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого, а пришел он в участок десять минут одиннадцатого, т.?е. через 25 минут после выхода из дома и минут чрез 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате и затем его уже обыскивают.
Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей; один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней; другой сказал сначала, что всего его обыскивал, и потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув ее голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерьи будет поражена внезапным нападением, – в сильных руках разъяренного мужа не соберется с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одной рукой за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другой нагибал ее голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна одна лишь рука, но перед нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водою, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему делали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей; один говорит, что он посажен в часть в сапогах, другой говорит – босиком; один показывает, что он был в сюртуке, другой говорит – в чуйке и т.?д. Наконец, известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке, – станут ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?
Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть по-детски легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходить в такое отчаяние, чтобы топиться ввиду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать невозможным, примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей «в Ждановку». Но, живя в России, мы знаем, какое в простом классе жестокое обращение с женой. Оно выражается гораздо грубее и резче, в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и нашуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороной в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказывая и истязая. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказывать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как рассказала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры – у бедной женщины – кофту: для чего же? – чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин[1 - Аршин – старорусская мера длины, равная 71,12 см. Здесь и далее примечания редактора.]. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность… Но чувство самосохранения непременно скажется, – молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому только гибнут под водою, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий, кто знаком с обстановкою самоубийства, знает, что утопление, а также прыжок с высоты, – два преимущественно женских способа самоубийства, – совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорей, сразу, без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду бросаются, а не ищут такого места, где бы надо было входить в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не вставать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение немыслимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.
Но, быть может, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такою женщиною, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в десять минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дома он вызвал Аграфену, как говорит Николаева. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через 20 минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один на один сладить с Лукерьею, как мог сладить с нею ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной как убийце Лукерьи рушится, и мы приходим к тому, что показание Суриной в существе своем верно. Затем остаются неразъясненными два обстоятельства: во-первых, зачем обвиняемый вызывал Аграфену, когда шел убивать жену, и, во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а вышла баба», и упрекал в том жену, в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому, что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных, подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый – человек самолюбивый, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви – значило бы прямо сказать, что он жену не любит потому, что женился сдуру, не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестье в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презирающим жену, не смогшую до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом – это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, – когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь вымышленную вину, чтоб оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор о жене Аграфене и в решительную минуту при них обеих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.
Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеною Суриною и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить, как добрая, любящая женщина. Напротив, она скорей всего в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности станет дразнить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться – два года водил, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшною тайною. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! Я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же душу Лукерьи загубил…»
Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив, во что бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем, могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же – разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурину то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя… Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другою женщиною, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.
Заканчивая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он со всею строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею женою.
* * *
Решением присяжных заседателей Емельянов был признан виновным «в насильственном лишении жизни своей жены, но без предумышления и по обстоятельствам дела заслуживающим снисхождения». Окружной суд приговорил подсудимого Емельянова к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на восемь лет.
По делу об оскоплении[2 - Скопцы – лица, подвергшиеся полной или частичной стерилизации. Скопчество в дореволюционном уголовном праве составляло преступление, относящееся к группе «религиозных посягательств», и каралось особо сурово. С конца XVIII века начинаются массовые судебные процессы, направленные против скопцов, вследствие чего большинство из них переселилось в Румынию.]купеческого сына Горшкова
Заседание по делу купца второй гильдии Г. Ф. Горшкова состоялось 19 июня 1873 г. во втором отделении Петербургского окружного суда. Горшков обвинялся в том, что, являясь членом скопческой секты, совратил в нее в 1864–1866 гг. своего малолетнего сына Василия и участвовал в его оскоплении.
Председательствовал на заседании К. Д. Батурин, обвинял А. Ф. Кони, защищал присяжный поверенный В. А. Кейкуатов.
Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему суду предан подсудимый Григорий Горшков по обвинению в том, что, сам не будучи скопцом в физическом отношении, т.?е. не будучи лишен своих детородных органов, но принадлежа духовным образом к секте скопцов, вовлек в эту секту своего сына и был не безучастен в его оскоплении. Не скрою от вас, что, приступая к исполнению лежащей на мне обязанности поддерживать это обвинение, я чувствую всю трудность предстоящей мне задачи. Трудность эта состоит не в том, чтобы я сомневался в вашей справедливости, беспристрастии, внимании и, наконец, сознании, что чем опаснее и неуловимее преступление, тем более бдительно общество должно стоять против него на страже. Нет! Трудность эта вызывается тем впечатлением, которое производят вообще дела подобного рода, дела скопческие. Во всех скопческих делах всегда господствует один общий элемент – элемент скрытности. Ничто здесь не высказывается вполне, обо многом умалчивается или не договаривается, благодаря недомолвкам концы легко прячутся в воду, и правосудию приходится распутывать их с большим трудом, борясь со множеством препятствий и имея пред собой свидетелей, которые не лгут прямо, но никогда не говорят прямо и правды. Это свойство скопческих дел существует и в настоящем случае. Если бы пришлось характеризовать большую часть показаний, данных пред вами, то можно смело надписать на них только одни слова: «не знаю», «не помню». Все ничего не знают, все ничего не помнят, начиная от госпожи Горшковой, которая не помнит, смотрела ли она, от чего страдает и погибает 11-летний мальчик – ее сын, и заканчивая Горшковым, который не знает, сколько его сыну лет и когда он родился. Везде «не помню», везде «не знаю»…
Но эта трудность не помешает нам, отбросив всю массу ненужного материала, остановиться на трех существенных вопросах и, разрешив их в том или другом смысле, или оправдать, или обвинить Горшкова. Я думаю, что его надо обвинить, так как ответы на эти вопросы должны быть в пользу обвинения. Вопросы эти следующие: 1) мог ли Горшков не знать об оскоплении своего сына, могло ли совершиться такое оскопление совершенно без его ведома, и справедлив ли рассказ сына Горшкова, что его оскопил солдат Маслов? 2) существует ли между Григорием Горшковым и скопчеством известного рода нравственная связь или Григорий Горшков с тем же естественным чувством брезгливости отворачивается от этой секты, с каким, по словам его жены, он отворачивался даже от своего сына? и 3) если между Григорием Горшковым и скопчеством есть нравственная связь и если без его ведома не могло совершиться оскопление его сына, то не было ли тут его содействия или участия, не он ли вовлек сына в скопчество и способствовал оскоплению его?
Прежде, однако, чем разрешить эти вопросы, я считаю нужным указать на две особенности настоящего дела и в кратких словах изложить пред вами сущность скопчества. Первая особенность та, что пред вами человек не оскопленный, и потому, естественно, в вас может возникнуть сомнение, каким же образом не принадлежащий к скопчеству физически может явиться его распространителем? Другая особенность этого дела та, что пред нами нет потерпевшего от преступления. Быть может, если бы пред нами был молодой Горшков, многое было бы в этом деле для нас ясно. Поэтому – и для выяснения значения этих особенностей необходимо прежде всего взглянуть поближе на скопчество.
Я не сомневаюсь, что вы знаете в общих чертах, что такое скопчество. У всех из нас сложилось о нем понятие как о таком учении, следствием которого бывает нравственное и физическое искалечение человека, доведение его до того физического и морального убожества, в каком вы видели здесь некоторых свидетелей. Но нужно обратиться к сущности этого учения. Скопчество развилось исключительно в России. Как прочно организованная секта оно существует только у нас. Бывают отдельные случаи оскопления и в Европе, но они являются или как способ, безжалостный и жестокий, создать особые голосовые средства у того, кого подвергают в малолетстве этой преступной операции, или как восточный обычай евнушества, тесно связанного с восточным рабством. Как учение скопчество существует только в России. В нашем отечестве, при господстве православной веры, существует, однако, целый ряд самых разнообразных сект или учений. Одни из них отличаются только обрядовой стороной от строго православного исповедания, а в существе правильно относятся к учению церкви и евангелию. Но некоторые из учений, несомненно уклонясь от правил церкви и искажая истинный смысл евангельского учения, доходят до совершенно дикого отрицания существенных и основных законов природы. Такого учения держится преимущественно скопчество. Это – даже не исключительно религиозное, а противообщественное – учение возникло впервые и стало проповедоваться в конце прошлого столетия Александром Шиловым, который подвергся наказанию и погребен в Шлиссельбурге, где могила его считается скопцами священным местом. Как систематическое учение, как секта, правильно организованная и построенная на известных прочных началах, скопчество явилось только в царствование императора Александра I, когда проживал, преимущественно в Петербурге, скопец Кондратий Селиванов, человек неграмотный, но умный, хитрый и обладавший весьма важным свойством для всякого проповедника нового учения – настойчивостью и умением подчинять себе окружающих людей. Исходя из ложно понимаемых им текстов евангелия о соблазняющем оке и о том, какие бывают скопцы, толкуя их не в связи с остальными местами евангелия и извращая их слишком узким материальным толкованием, он учил, что человечеству было указано учением Спасителя не нравственное совершенство духа, а грубое искалечение тела, как средство борьбы с грехом, что Спаситель осветил путь исправления человечества именно таким образом. Он учил, что этот надлежащий путь исправления состоит не в восприятии высокого учения евангелия, которое заключается прежде всего в любви к ближнему, а в стремлении уйти от этого ближнего, удалиться и бежать от красоты, от «лепости» и бежать притом не нравственно, не стараясь бороться, а бежать малодушно, физически, посредством изувечения самого себя. Далее Селиванов находил, что все несчастия в жизни происходят от половых побуждений и что их нужно пресечь в самом их корне. Для этого он требовал от своих последователей, чтобы они вели постническую жизнь, не пили вина, не ели мяса, старались удаляться от всякого соблазна, от всякой «лепости» и, постепенно проходя все степени скопческой иерархии, садились бы сначала «на серого коня» и принимали «малую печать», т.?е. лишились бы ядер, а впоследствии приобретали «большую печать», т.?е. лишались бы вообще детородных органов. Приняв «большую печать», последователи Селиванова становились «убеленными», грех не мог их более коснуться, в них замирала всякая мысль о нем, и они делались «белыми голубями» или «белыми овцами». Это учение, несмотря на все свои противоестественные правила и задачи, нашло последователей. Простота рекомендуемого им способа борьбы с грехом и вечным осуждением, борьбы, не требующей постоянных усилий и напряжения душевных сил, а лишь одной физической жертвы, имела особую привлекательность для робкого ума неразвитых людей. А учение Селиванова было направлено на неразвитую массу, которая не может правильно толковать святое писание, следуя только его букве, а не духу. Из этой массы скопчество вербовало большую часть своих приверженцев. В настоящее время последователи Селиванова сплочены в прочную массу, они следуют наставлениям своего учителя, для них этот учитель составляет верховного главу, наместника бога, «Искупителя». Для них он почти заменяет Христа, для них лик божественного страдальца, проповедовавшего живую, всепрощающую любовь к своему ближнему, отошел на задний план. Христос не вполне исполнил свою задачу, говорят они; Селиванов – вот настоящий Христос, он не только царь небесный и искупитель, но – и на этом отразилось стремление русского народа в конце прошлого века создавать самозванцев – он вместе с тем и император Петр III, который скрывался от преследований под именем Селиванова. Как император Петр III и как батюшка-искупитель, он соединял в себе высшую духовную и светскую власть. Правда, Селиванов был преследуем, последователи его гонимы, но придет время, когда он вернется на землю к своим «детушкам» и водворит скопческое царство на Руси. К Селиванову сводится вся история скопчества, с него она начинается и в его жизни черпает свой главный материал. У скопцов нет священных книг, а все передается на словах. От Селиванова, от его имени, от его страданий, подобно лучам, расходится ряд стихотворных легенд, так называемых «распевов», в которых Петербург прославляется как Сион, как «святой пресветел град», Селиванов – как мученик, пострадавший за веру, и которые поются на сходбищах скопцов, называемых радениями.
В чем состоят эти радения – это долго описывать в подробности. Главным образом они заключаются в том, что эти люди, так ложно понимающие жизнь и ее требования, сходятся вместе, одеваются в длинные халаты, зажигают свечи и под пение распевов, в которых воспеваются «страды» Селиванова, начинают быстро вертеться в одиночку, сходиться накрест, двигаться плечом к плечу, кружиться рядами и приходить, наконец, в сильнейший экстаз. Вертясь все быстрее и быстрее, они впадают в полубессознательное состояние, пот льет с них ручьями, развевающаяся одежда иногда даже тушит свечи и тогда, посреди всеобщей усталости и полного душевного опьянения, кто-нибудь один из сильно возбужденных радеющих начинает изрекать бессмысленную связь слов, с механическим подбором рифм, что и составляет пророчество. Это состояние опьянения сами скопцы описывают очень характеристично: «То-то пивушко, – говорят они про радение, – человек и не телесными устами пьет, а пьян живет».
Внутреннему содержанию скопчества – странному и дикому – соответствует обрядовая сторона, выражающаяся и в радениях, и в известного рода обычаях и символах, составляющих неразлучную принадлежность замкнутого скопческого житья. Ему соответствует, к сожалению, в большей и высшей степени и вся личная жизнь скопца. Известно, что природа не прощает нарушения своих законов, и давно уже высказана та истина, что человек главным образом потому несчастлив, что забывает про законы природы. Это выражение всего более применимо к скопцам. Вслед за оскоплением начинается изменение оскопленных в физическом отношении: они хиреют, в них перестает обращаться с прежней живостью кровь, лицо делается бледным и опухлым, в движениях видны бессилие и усталость, отсутствие аппетита, прекращается всякая растительность на бороде и усах, – одним словом, является совокупность тех признаков, которыми, по общему народному убеждению, характеризуется личность скопца. Поэтому мне незачем описывать тип скопца, он слишком известен, он слишком определенный тип, чтобы нуждался еще в каком-либо описании. Произведенные в последнее время исследования над физическим состоянием скопцов, преимущественно нашим известным ученым Пеликаном, показали, что даже самые кости скопца изменяются под влиянием оскопления, совершенного в ранних летах, что они приобретают размер, гораздо ближе подходящий к костям женщины. Вообще, приближаясь по своему виду к женщине, вместе с тем скопцы утрачивают и все хорошие свойства мужчины. Таким образом, в них исчезает мужество, прямодушие, энергия, но при этом они не приобретают и хороших женских свойств: в них нет ни мягкости характера, ни нежности, ни горячей любви, а все заменяется сухостью в обращении, крайней черствостью, отчуждением от людей, сознанием, что все остальные люди им чужие, что все они стоят не на надлежащей дороге, сознанием, что они отделены от всех людей непроницаемой стеной и что только в помыслах об искупителе Селиванове они могут находить утеху. Среди «труждающихся и обремененных», наполняющих общество, в котором живут скопцы, они стараются приурочивать себя к такому делу, при котором без особого труда получают возможность забирать в руки людей нуждающихся и – копить деньги, одну из немногих утех, оставшихся им в жизни. Занятие их – преимущественно меняльная торговля и биржевые операции. Вы, конечно, знаете, что занятие меняльной торговлей принадлежит, в глазах народа, к одному из присущих скопцам признаков. Жизнь их – скучная, мрачная, сухая, черствая, без любви и ее радостей – проходит в занятиях преимущественно меняльной торговлею и в радениях. Но иногда однообразие этой жизни, и, к сожалению, довольно часто, нарушается явлениями радостными, светлыми. Это прием новых членов в секту.
Ни одна секта, как это замечено последователями нравственной стороны скопчества, – и в этом они сходятся с учеными исследователями физической стороны скопчества, – ни одна секта не отличается таким страстным стремлением к вербованию себе адептов, ни в одной секте не существует такой радости, такого стремления пожертвовать всем, чем можно, чтобы только приобрести лишнего человека и отнять его у действительной жизни. Для этого скопцы не останавливаются ни пред чем: обещания, ласки, подкуп взрослых, угрозы и насилия над малолетними и в широком смысле пользование невежеством, неграмотностью, бедностью народа – все это пускается в ход и служит для того, чтобы завербовать себе новых товарищей по увечью. Эта-то сторона скопчества и представляется самой главной и опасной. До сих пор не определено, да трудно и определить, что руководит скопцами в этом отношении. Едва ли можно думать, что одно только желание приобщить других к предполагаемому «скопческому» вечному блаженству заставляет их приобретать сообщников. Я думаю, и этого же мнения держатся многие исследователи скопчества, что здесь кроется болезненное желание видеть около себя побольше таких людей, как они сами, с которыми бы можно было разделить тягости своего существования, разделить это отсутствие всяких радостей, эту бесцветность жизни. В таких случаях, как я сказал, скопцы выказывают замечательную деятельность и обыкновенно выделяют из себя известную группу людей, которые преимущественно занимаются подобного рода делами. Для того, чтобы явиться распространителем скопчества, чтобы привлекать в скопческую ересь возможно большее количество людей из мира, нельзя быть скопцом вполне; от скопца всякий будет сторониться. Скопец не может, по самому существу своему, по своей отчужденности от мира, представить так живо, так заманчиво все прелести скопчества, сопоставив их с огорчением, причиняемым житейской «слепотой», не может указать так ясно на тот вред, на ту опасность, которую представляет женщина. Для этого нужен человек, который сам стаивал бы в таком опасном положении, – такой человек с большей энергией будет обращать в скопчество, такой совратитель подвергнется меньшей опасности, если он будет открыт, потому что всегда естественнее и предполагать, что принадлежащей к секте хочет распространять ее. Но когда он является неоскопленным, тогда власть невольно призадумается, – явится мысль, что если человек сам не вкусил скопчества, то зачем он будет совращать других в эту ересь? Наконец, попадают в эту организацию по большей части люди бедные. Приобщаясь к скопчеству и получая на руки деньги, эти люди могут быть весьма полезными распространителями печального учения. Они неоскоплены, энергии у них поэтому много, они бедны, и потому деньги могут послужить хорошим орудием для обращения их в рабство, во имя и во славу «батюшки-искупителя». Мне могут сказать, что это только предположения. К сожалению, это не предположения. Я думаю, что сам защитник не откажется подтвердить, что на эту сторону указывают все исследователи скопчества. Наконец, лучше всего указывает на это самая жизнь. Мы знаем, что скопчество располагает не только агентами, которые далеко не все бывают оскоплены, но мы знаем, что даже глава современного скопчества, который по влиянию равняется почти с Селивановым, который был его преемником в этом отношении, известный моршанский купец Плотицын, скопивший миллионы, державший в своей власти целый уезд, глубокий и систематический распространитель скопчества, при освидетельствовании оказался неоскопленным. При обсуждении скопческих дел всегда нужно иметь в виду, что в среде скопчества бывают лица, которые, вполне разделяя это учение, страха ради иудейского или по телесной слабости, не решаются оскопиться, но делаются только ревностными и хорошими проводниками скопчества, и они-то и представляются наиболее опасными членами этой секты.
Я закончил тот необходимый краткий очерк, который хотел вам представить. Он, конечно, не полон, но основные черты его, смею думать, верны. Мне, однако, думается, что необходимо обратиться еще к одной мысли, которая, может быть, будет высказана в нашей среде, господа присяжные, при всестороннем обсуждении настоящего дела. Могут сказать, что преследование сект, подобных скопческой, является нарушением свободы совести, что у человека, как бы он ни был связан с государством, как бы тесно ни соприкасался с обществом, в котором живет, должна быть известная область душевной свободы, в которую никто не имеет права заглядывать и не должен вторгаться, область, вступая в которую общество и государство должны складывать оружие и являться, в крайнем случае, только наблюдателями. Могут сказать, что человек волен бороться с греховными побуждениями теми средствами, которые ему кажутся наилучшими, лишь бы они не затрагивали интересов других людей. Но, господа присяжные заседатели, если бы дело шло о преследовании тех 58 чухон[3 - Чухна – название эстонца или фина, проживавших в окрестностях Петербурга.], о которых говорилось в прочитанных здесь письмах Горшкова, тех, которых неразумие, невежество, нищета, бедность, скудость природы и тяжкие семейные условия толкнули на скопчество, которые сами не ведали, что творят, давая себя оскопить, то эти соображения могли бы иметь место как призыв к особому снисхождению к жертвам фанатического заблуждения. Если бы дело шло о зрелом человеке, который сознательно и свободно, обдуманно и спокойно, по чувству искренней веры, оскопил себя, можно бы говорить об этой неприкосновенной области и спорить относительно ее границ. Но там, где дело идет о распространении скопчества, о сознательном вовлечении в эту секту слабых людей, придавленных судьбою или не обладающих здравым разумением, там слово «свобода совести» является только громким словом, которым можно злоупотреблять без всякой пользы для разъяснения дела. Притом скопчество вовсе не является исключительно религиозным учением, противным православию. На это уже достаточно указывает то, что оно одинаково распространяется не только между православными, но и между лютеранами – финнами. Оно является, по способам своего распространения, по среде, в которой оно вербует своих вольных и невольных приверженцев, учением противообщественным. Нам известно, что христианство у скопцов на заднем плане, напротив того, отчуждение от ближнего, отпадение от общества, отрицание семьи, которая есть основание общества, – вот, что стоит на первом плане. Это учение скорее всего направлено против общества, а не против религии.
Посмотрите, среди кого распространяется скопчество, на кого оно старается действовать. Опять я сошлюсь на этих 58 чухон, дело о которых разбиралось в Петербургском окружном суде два года назад. Вы знаете ту унылую, суровую и скудную природу, среди которой живут эти люди: кочковатые болота, кривые березы, мхи, жалкий климат – все это при экономической подавленности и неразвитости, при вопиющей нередко бедности ложится на них тяжелым бременем, делает их жизнь горькой. И вот тут, где религиозное развитие слабо, где семья скорее тягость, чем утешение, является скопчество. Но разве оно рисует им лучшую жизнь и счастие? Нет, нисколько. Да этого и не нужно! Зачем говорить о будущем, каким его представляет Селиванов, а не прямо указать на те средства, которые можно получить, если перейти в скопчество, на возможность получить лошадь, корову, на возможность жене одеться, детям не голодать. И вот совращение совершено. Затем посмотрите на другую среду, в которой распространяется скопчество. Это – дети, существа, которые зависимы, неразвиты, нередко ничего не понимают. Они в полной зависимости от родительской власти, особенно при тех условиях, в которые поставлена родительская власть в низшем слое населения. Можно зачастую совершенно безопасно и невозбранно насиловать их, вовлекая в скопчество и губя их еще не сложившуюся жизнь. Вот почему, я полагаю, что не в самооскоплении, не в принадлежности к скопчеству, не в этой жалкой приверженности к скаканию и пению рифмованного набора слов состоит зло скопчества, а в его силе распространения, в стремлении его вербовать… Это и не мой только личный взгляд. Наше высшее судебное учреждение, Кассационный Сенат, обратил внимание на скопческую секту, и вот как он о ней говорит: «Государство не может допускать организации обществ, употребляющих для достижения своей цели средства, противные нравственности и общественному порядку, хотя бы такие общества и прикрывались религиозными побуждениями; в скопческой же ереси ясно преобладает противообщественный элемент, а элемент религиозный представляет совершенное извращение не только православия, но христианской веры вообще». Ввиду этих слов высшего судебного учреждения, ввиду тех условий скопчества, на которые я указал, мне кажется, что возражение, будто распространению скопчества не надо полагать твердых пределов, не имеет правильного основания. Обращаюсь собственно к существу настоящего дела.
Первый вопрос по существу дела заключается в том, мог ли Горшков не знать, что его сын оскоплен? Можно ли было это сделать без его ведома, и справедлив ли рассказ его сына? Полагаю, что рассказ этот совершенно несправедлив. Разберем, в чем он состоит, кстати, разберем и рассказ матери. «Пошли на богомолье, отстал, подошел неизвестный солдат, предложил пряник, я съел пряник, упал без чувств, проснулся – отрезаны ядра; пошел в Курск, встретил на рынке мать; приехав в Петербург, отцу ничего не говорил, чрез два года поехал в Курск, там судился и, приехав, привез отцу копию приговора». Вот сущность его рассказа. Но стоит немножко вдуматься в операцию оскопления, чтобы понять, что этот рассказ неправдоподобен. Не говоря о том, что то, что рассказывает молодой Горшков курской уголовной палате, невероятно с физической стороны, оно невероятно и с нравственной стороны. Оскопить таким образом человека вдруг, ни с того, ни с сего – это невозможно. Оскопить человека для того только, чтобы оскопить, значит совершить деяние без смысла и цели, даже со скопческой точки зрения. Скопцы стремятся к тому, чтобы приобресть людей, которые сознательно принадлежали бы к скопчеству или, по крайней мере, выросли бы в нем. Поэтому оскоплению чуждою рукою взрослого человека предшествует известное внутреннее соглашение, всегда тот, кто оскоплен, еще до оскопления духовно сливался с скопчеством, но он был слаб, он был нерешителен относительно «принятия печати», и в этом ему помогла посторонняя рука. Если же это дети, то, без сомнения, ряд внушений, приказаний и принуждений предшествует этому акту – бессмысленному и бесчеловечному. Оскопить несчастного ребенка, накормив его каким-то пряником, и затем потерять его из виду – разве не все равно, что отрезать человеку нос или отрубить руку во время сна? Ведь это будет только увечье, которое само по себе не имеет ничего общего с учением скопчества. Посмотрите на эту операцию с физической стороны. Каждому лицу мужского пола известно, как чувствительны половые органы, как мало-мальски сильный толчок в них причиняет жестокие боли, а более сильный может вызвать смерть. Всякое насилие над этими органами должно причинять тяжкие страдания, всякий разрез, произведенный грубо и торопливо, должен произвести сильную потерю крови, привести человека в ужасное нервное состояние, должен почти совершенно парализировать его движения. Сначала человек оскопленный не только не будет мочь идти, но долгое время будет на одном месте истекать кровью и только через значительный промежуток времени будет иметь возможность кое-как двигаться. Между тем мы видим тут ребенка, мальчика, который наутро после оскопления встал и явился в Курск. Он выздоровел так скоро, что чрез две недели, а мать даже говорила – чрез одну неделю его везут в Петербург, и притом не по железной дороге, а со всеми неудобствами былого времени, в тарантасе[4 - Тарантас – четырехколесная конная повозка на длинных дрогах (продольной раме), уменьшающих дорожную тряску в длительных путешествиях.] или на перекладной до Москвы. По прибытии его в Петербург там тоже никто не замечает его страданий, никто не видит, что с ним сделалось. Но припомните анатомическое строение половых органов: сколько в них кровеносных сосудов, как чувствительны эти органы. Если уж обыкновенная рана нередко вызывает сильные страдания, сопровождается большим истощением вследствие потери крови и заживает медленно, то рана, нанесенная в такую часть тела, где скопляются кровеносные сосуды, скоро, на другой день, не заживет и не закроется. Поэтому и с физической стороны заявление Горшкова несправедливо. Заявление матери его еще менее правдиво. Эта мать, узнав из слов сына, что его «испортили», не полюбопытствовала даже узнать, что именно с ним сделалось, не занялась его лечением, не расспросила его, а просто сказала какой-то неизвестной Пелагее Ивановой, которая чем-то и примачивала Василию больное место. Но отчего же по приезде в Петербург она не заявила об этом мужу? Отчего она не заявила никому на месте? Ведь в ней должно было прежде всего заговорить материнское чувство. Ведь тут на первом плане вред, болезнь, горе, причиненное сыну. Тут произошло лишение на всю жизнь одной из существеннейших способностей, и она, женщина в летах, не могла этого не понимать. Она должна была быть лично огорчена и убита всем, сделанным с ее сыном. То, что произошло с ним, в самой вялой и апатичной матери, – если только она мать действительно, – должно было возбудить негодование, слезы… Она должна была идти в полицию, жаловаться, заявить, тем более, что все случилось тут же, около, на месте. Допустим, наконец, что она, как женщина, под влиянием горя, потерялась, не нашлась, что сделать. Но у нее есть муж, человек деловой, энергический; он бывший управляющий богатого помещика, который имеет связи, он пойдет к нему, попросит помощи, содействия, заступничества, поднимет на ноги полицию, и тогда разыщут лихого человека, тогда за сына отомстят. Однако она молчит перед мужем. Она, по ее словам, боялась, что он забранит ее. За что же забранит? За то, что неизвестный человек оскопил ее сына, которого оттеснила от нее толпа на крестном ходу. Есть ли тут сколько-нибудь здравого смысла? Поэтому рассказ Горшковой лжив. Но такой рассказ встречается очень часто. Я нарочно здесь спрашивал одного из скопцов о том, как его оскопили, и он нам рассказал такую же историю, которая повторяется всеми: это старая история, но в устах скопцов она всегда остается новою. «Солдат шел… дал напиться… упал… заснул… отрезал… не помню как… проснулся… пошел домой… никому не заявил… боялся…» Рассказ не так прост, как кажется с первого раза, он является результатом определенной системы действия и отражается на целом ряде судебных приговоров старых судов, что доказывает, например, и дело Маслова, на которое я ссылался. Скопцы не могут страдать все за участие в оскоплении того или другого лица, им необходимо сплотиться и держаться крепче друг за друга, для этого нужно принести одну, общую за всех, жертву, выставить кого-нибудь одного из своих, и в этом отношении у них существует особая система действий. Всякий исследователь скопчества, всякий юрист, знакомый с делами старых времен, скажет вам, господа присяжные, что по временам в той или другой местности России, преимущественно в Орловской и Курской губерниях, появлялись люди, которые заявляли, что они оскоплены, показывали на известное лицо, которое иногда даже являлось вместе с ними и принимало на себя вину свершения над ними оскопления. По большей части это бывал какой-нибудь отставной солдат, дотоле питавшийся подаянием. Лицо это сажали в острог, и тогда-то начинали слетаться со всех концов «белые голуби», заявляя, что они были оскоплены, что их оскопил при таких-то обстоятельствах какой-то неизвестный солдат. Обстоятельства эти всегда были одни и те же: «Шел… напоил… оскопил…» и т.?д. Им показывали содержавшегося в остроге, и он чистосердечно, иногда со слезами, сознавался, что действительно он оскопил всех этих лиц. Скопцы эти прибывали целыми массами, так что, наконец, целое стадо этих «белых овец» собиралось вокруг этого злого волка, который их изувечил… Его ссылали в Сибирь, а их, как невинно оскопленных, оправдывали. Эту систему можно с очевидностью проследить по делу Маслова. Оно началось с 1865 года. 16 марта 1865 года к судебному следователю города Курска явились три лица и заявили, что они оскоплены солдатом Масловым; вместе с ними явился и сам солдат Маслов и сказал, что действительно он оскопил этих лиц. Если вы будете перелистывать это огромное, лежащее ныне пред вами, старое дело, то увидите постоянное повторение одного и того же протокола: явился такой-то, заявил, «что оскоплен Масловым, Маслов сознался в том, что действительно оскопил это лицо», затем новоявившегося свидетельствовали, нашли малую печать, отдали на поруки и т.?д.
Потом явился другой, третий, и всего набралось – 114 человек!! Их всех в промежуток года с небольшим успел оскопить, по собственному признанию, Маслов… Таким образом, набрав на себя грехи 114 скопцов, он отправился в Сибирь, не пострадав сильнее от этого принятия на себя не одного, а целой сотни оскоплений потому, что наказание за оскопление полагается одно и то же, невзирая на число оскопленных. Все заявившие лица сделались свободными от суда и получили в том удостоверение. В числе этих лиц был Василий Горшков. Людей вроде Маслова было в последние годы несколько. Пред Масловым был в том же Курске Чернов или Черных, на которого, как на оскопителя, сегодня перед вами сослался один из свидетелей скопцов. Он повинился, по вышеприведенному способу, в 106 оскоплениях; Маслова сменил ныне в курском остроге новый великодушный охранитель скопчества – Ковынев. Таким образом, рассказ Василия Горшкова представляется совершенно соответствующим этой системе.
Тех ссылок, которые я сделал на дело Маслова, достаточно для того, чтобы признать, что рассказ Василия Горшкова и матери его несправедлив. Тогда остается один вывод: он оскоплен не Масловым и оскоплен не при матери, в Курске. Но если так, то где же он оскоплен? Ему было 11 лет, он только раз отлучался с матерью в Коренную пустынь, а все время жил в Петербурге, при отце. Нельзя же допустить, чтобы 11-летний мальчик отлучался один на долгое время из Петербурга. Вы слышали из обвинительного акта, что, по словам Горшкова, он первоначально узнал об оскоплении сына тогда лишь, когда сын предъявил ему приговор палаты, т.?е. в 1866 году. Здесь, на суде, он изменил это показание и говорит, что он узнал об этом от жены, когда сын ушел с Пелагеею искать «того человека». Это изменение совершенно понятно, потому что иначе ему пришлось бы утверждать, что сын его, 13-летний ребенок, без ведома отца ездил один в курскую уголовную палату для выслушания приговора и дачи показания. Но слишком несообразно с здравым смыслом допустить, чтобы 13-летний ребенок один поехал в Курск выхлопатывать себе обвинительный или оправдательный приговор. Василий Горшков все время до получения приговора и потом года три жил в Петербурге, и жил при отце. Это мы знаем из дела и из свидетельских показаний. Но если он не оскоплен в Курске, то он нигде не мог быть оскоплен, кроме Петербурга.
Если допустить, что его оскопили в Курске, то невольно приходится спросить себя, как могло укрыться от отца, что он оскоплен, что он, особенно первое время по приезде из Курска, страдает? Как он мог скрыть это от отца, с которым жил, от тех детей, с которыми бегал, как мог он скрыть это в бане, в которую являлся с отцом? Это невозможно. Он не мог бы скрыть следы заживавшей раны, не мог бы скрыть ту неровную походку, которая присуща скопцам. Мы должны предположить отсутствие у отца его всякой наблюдательности, всякого внимания к сыну, всякого отцовского чувства, когда он не замечает, что у малолетнего сына, при наступлении зрелости, голос не становится мужественным, а дребезжит и делается скопчески-писклив, когда он не замечает, что вместо того, чтобы, возрастая, румянеть и цвести, сын делается хилым, вялым и худеет, что глаза его не блестят, походка шатка и неровна и, наконец, что у сына нет ни детской веселости, ни шалостей, ни юношеского задора. Всего этого отец не мог не заметить, а если он не мог этого не заметить, то он и не мог не знать, что сын его оскоплен. Если же мы допустим, что он не мог этого не знать и признаем, что сын был оскоплен не в Курске, то следует признать, что совершить оскопление 11-летнего сына богатого и энергического человека в Петербурге невозможно без ведома этого человека. Как можно, без ведома отца, нравственно оторвать ребенка от семьи и внедрить в него скопческие мысли, как можно оскопить его незаметно, неслышно для отца? Таков ответ на первый вопрос. Притом, мы знаем из показаний Васильева, данных здесь на суде, вдали от майора Ремера, которого он будто бы так боялся прежде, и вблизи от присяги, которой он так боится теперь, что малолетний Горшков проговаривался, что он оскоплен, и говорил что-то такое о распевцах и о радениях. Но если он знал о радениях, то, значит, он их и посещал. Но мог ли 12–13-летний ребенок посещать радения, которые бывают ночью, без ведома отца, потихоньку, самовольно? Мог ли отец не знать о том, что сын испытал, что такое радение?!