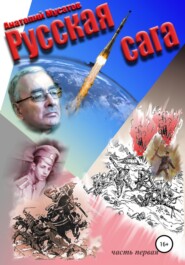По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Заслон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что поделаешь, пора такая, – ответил Иван Фомич, уже стоя в дверях.
Варя пошла проводить их до калитки. Вскоре послышался звук мотоциклетного мотора, который, удаляясь, постепенно слился с оглушительным стрёкотом кузнечиков.
В сенях звякнуло ведро. Войдя в комнату, Варя сказала:
– Вы подождите, пожалуйста, немного, я скоренько схожу за водой. Ни капли не осталась. Потом я вас накормлю. Петра теперь долго не будет, так чего ж вам его ждать.
Евсеев хотел забрать у неё из рук вёдра, но Варя запротестовала:
– Да что вы, что вы, здесь же совсем рядом, у соседей. Вы отдыхайте.
Отсутствовала Варя недолго. Едва войдя, она с порога торопливо проговорила:
– Ну вот и я. А что ж вы стоите, вы садитесь. Ой, извините, вам, наверное, умыться хочется.
Варя, подойдя к шкафу, достала длинное, белое полотенце:
– Умывальник во дворе, там у заборчика, справа.
Когда Евсеев, освежившись, вошел в комнату, на столе всё было готово для ужина. Во главе стола стоял чугунок с борщом. Вся комната была наполнена пряным, густым ароматом. У него даже закружилась голова от проснувшегося, зверского аппетита. Варя наполнила его тарелку до краев.
– Ешьте, ешьте, знаю ведь голодные. Деревенский воздух не городской. Тут уже через час есть хочется. А я Петра подожду.
– Скажите, Варя, вы, как я понял, выросли в семье Мефодия. Расскажите мне о нем, о вашей жизни у них, обо всем, что с Мефодием связано.
Варя покачала головой:
– Да я даже не знаю, что вам и сказать… Мефодий мне вроде второго отца был. До войны я у них жила. Потом, после, когда я вышла за Петра, родилась Марька. К Мефодию стала реже приходить. А он ведь больной и уход за ним каждый день был нужен. Да разве ж упросишь его перейти к нам жить. Он только вздохнет и скажет: «Э-эх, касатка моя сердешная! Даже мышь нору свою не бросит, покуда смерть её не найдёт». Конечно ж, потом недоглядели… Упрямый он…
Варя вертела в руках платок и смотрела в окно. Взглянув на Евсеева из-под тяжелых, длинных ресниц добавила:
– Я уж и не знаю, что вам сказать. Мы с Петром много раз его просили и в больницу лечь, – у нас хорошую больницу построили в районе, – а он своё твердит.
– Варя, скажите, это верно, что Мефодий много лет с вами не разговаривал, будто не мог простить вам вашей любви к Петру Ивановичу. Вы простите меня за этот вопрос, – поторопился закончить Евсеев, видя пробежавшую по лицу Вари, тень. – Я не должен был…
– Нет, нет, что вы! – Варя помолчала. – Получилось тогда, всё как-то не так. Я Петра до одного дня и не замечала вовсе… Я ж была совсем девчонкой, а Петр… Вы верно знаете, что он старше меня на двенадцать лет. Что ему было до голоногих девчонок-мальков, мельтешащих под ногами. Только однажды, в последнее лето перед войной, мы носили еду и квасу косарям на покосы. Мне уже шестнадцатый годок шел… Тогда-то и случилось со мной событие, которое разделило мою жизнь на две половинки – до и после этого дня. Подала я Петру крынку с квасом, а сама не могу оторваться от его глаз. Глянул он на меня черными огромными глазищами, в которых огонь так и вился вихрем и пропала я, бедная девушка. Стою, не смея пошевелиться. Вижу только его сильные руки, его кудри, ветром развеянные. Бессильная истома вдруг пронзила меня, как молнией. Слышу, Петр говорит что-то мне. А я, словно деревянный столбик, вбитый в землю, ошалело смотрю на него и молчу. Потом он мне говорил, что я стояла бледная, как смерть. Только щеки мои горели ярче пламени. Петр подумал, что мне нехорошо. Кликнул он девчонок, чтобы они отвели меня домой.
А у меня сердце колотилось как у птицы, зажатой в кулаке. С того дня запала в мое сердце маята необоримая… Мне бы, дуре, понять, что ничего общего у меня с Петром нет. Он взрослый мужчина, а я малая девчонка. Что ему со мной делать, нянчиться, что ли? Вот и маялась я с того времени, иногда до слез и злости на всех…
А с Игнатом мы росли рядом. Понятно, стал он за мной ухаживать. Игнат всё задумал всерьёз. Когда мы гуляли, он непременно начинал говорить, не впрямую, а все намеками на будущую нашу с ним жизнь. Это он так решил. А я ходила с ним просто так.
От моих названных братьев я ничего не скрывала и делилась всем, о чем думала и желала. Но, как вы понимаете, до поры, до времени… Как влюбилась я в Петра, стала моя дума самой глубокой тайной, особенно от Игната. Он с некоторых пор стал сильно отличать меня: иногда стоит бездумно и смотрит. Спрашиваю, ? отвечает невпопад. А уж краснел он, как маков цвет, если я в шутку дразнила его какой-нибудь зазнобой.
Я-то догадалась в чем дело, но виду не подавала. Сама страдала и мучилась от невозможности приблизиться к Петру хоть на малый шаг. Никак не могла найти ни путь, ни повод, чтобы поведать ему о своем счастье и чувстве. И получилось так, что война, великое горе и беда, совместилась для меня с ощущением безмерного счастья. Я понимала, что так нельзя, везде кровь и смерть, и лютый враг захватил мои родные места, что не до чувств теперь, но ничего сделать с собой не могла. Когда я была рядом с Петром, невозможно томительное блаженство заливало всю мою душу…
Во мне всё переворачивалось, как только подумаю, что его могут убить. Когда он ушел в лес партизанить, я решила всё рассказать Игнату. Не встречаться с ним больше. Но не успела. Их тогда… расстреляли, вы знаете. И мой Петр вскоре был тяжело ранен. Я так и просидела около него все те денёчки. Господи, сколько слёз я тогда пролила, всё молчком, чтобы никто не заметил.
Варя замолчала. За окном незаметно потемнело и ранние сумерки легли на её лицо печальными и тонкими тенями. За её спиной трещала жарко разгоравшаяся печь, весело играя, пробивавшимися из-за заслонки яркими бликами огня. На минуту Евсеев ощутил свою причастность к этому простому бытию. Чувство было такое, словно никогда и не расставался с этой светлой и уютной комнатой, весело трещавшей печью, окнами в занавесках, расшитых петухами, и сидевшей напротив молодой женщиной с затаенной грустью в больших глазах…
Думала Варя об одном разговоре с матерью Игната. Тяжелый был разговор, неловкий. Настасья Никитична посадила ее за стол. Сама села напротив, по другую сторону стола. Глядя в глаза, спросила:
– Ты что ж это, девка, удумала?
Настасья Никитична помолчала. Закрыв глаза, продолжила:
– Я стара, но не слепа. Мне ведома твоя тайная дума. Нехорошая эта дума. Не станет Петр портить жизнь и тебе, малолетней дурехе, и себе, умудренному жизнью и опытом взрослого мужика. Нечем ему будет заполнить твою жизнь. Ты ослобони свое глупое детское сердце от несбыточной надежды…
– Не могу, мамочка… нет сил не думать о нем… Пусть я лучше умру, но жизнь моя без него пропадет безвозвратно…
Так ответила тогда Варя Настасье Никитичне, – едва сдерживая слезы и прерывая слова свои дрожащими от напряжения вздохами. И что она могла ответить, когда все ее существо было заполнено радостной, светлой надеждой на божью милость и свое нечаянное счастье.
Настасья Никитична покачала головой:
– Не ты, Варя, первая, не ты и последняя в любовной тоске проводить свои дни. Ты спроси свою мамку, как она вышла замуж за батьку твоего. Я-то знаю, трудная и несчастная доля досталась твоей мамке. Любила она одного, а вышла за нелюбимого. И все-таки, если ты спросила ее об этом, – счастлива ли она была, ? мамка твоя даже не поняла бы тебя. Бабское счастье не в любви, а в достатке, в надежном человеке рядом с собой и в здоровых детках…
– Я ничего этого не знаю, дорогая мамочка, но и жить без счастья не по Божьему промыслу! Сам Господь призывал жить в любви и согласии…
– Ох, девка, – оборвала ее Настасья Никитична. – То мир Господень и не для каждого дня он понятен. Есть и другой промысел Божий. Только нам он неведом и потому, как поступают люди, мы судим о делах его, – угодны ли они Господу или нет. И только временем мы можем проверить истинность нашего выбора…
Сбросив с себя минутное наваждение, Варя пододвинула Евсееву тарелку:
– Заговорила я вас. Пожалуйста, отпробуйте борща.
Евсеев благодарно кивнул. Зачерпнув бордовый, с блестками жира густой навар, потихоньку подул на горячий борщ. Он чувствовал стеснение и неловкость оттого, что отрывает Варю от многих дел. Его больше всего заботила мысль о том, как бы не оказаться для занятых людей балластом, чем-то вроде досадной помехи. Что так оно и есть, он нисколько не сомневался. Евсеев невольно заторопился и глотнул в впопыхах лишнего.
Тут же последовала расплата. Рот его будто на полнился раскаленными углями. Евсеев, не в силах удержать борщ во рту, вылил тотчас же его обратно в ложку. Варя, не сдержавшись, прыснула со смеху. Но, увидев его вытаращенные глаза, широко открытый рот, судорожно хватающий воздух, испуганно заохала:
– Ой, господи, простите, я сейчас водички вам дам, выпейте, это поможет.
Она вскочила. Зачерпнув кружкой из ведра, подала её Евсееву. Задержав во рту холодную воду, он сделал несколько полоскательных движений:
– Вот напасть, честное слово, – сглотнув, ответил Евсеев. – Но это всё борщ виноват. Я давно не пробовал такого вкусного, вот и поторопился, – смущённо объяснил он, пытаясь неловким комплиментом скрыть свой конфуз. Варя всё поняла:
– Ну, вы тут сами хозяйничайте. Вот здесь картошка с мясом и кисель. Пойду, Марьку покликаю. Совсем забегалась девчонка. Пора ей тоже ужинать.
Варя встала и зажгла свет. Накинув на плечи висевшую у двери зелёную вязаную кофту, вышла. Доев ужин, Евсеев неспешно поднялся. Он достал папиросы, но в комнате курить не стал. Сработала привычка, привитая матерью. Его раннему пристрастию к табаку мать не препятствовала. Она лишь запретила ему курить в доме, и, тем более, в постели перед сном. Евсеев помнил ее натужный, грудной кашель, оставшийся после пяти лет лагерей. Ее посадили по навету соседа, написавшего лживый донос.
Мать никогда не говорила о причине жестокого поступка мужчины, занимавшего один из каких-то хозяйственных постов в городе. Больные легкие стали расплатой за его корыстную месть. Потом Евсеев узнал, что хозяйственник, что называется, «глаз положил» на мать в отсутствие мужа, находившегося в длительной командировке.
Вернувшись, она, с помощью друзей мужа, погибшего в научной экспедиции, добилась возврата детей, определенных по интернатам после ее ареста. Но поправить уже было ничего нельзя. Здоровье требовало серьезного лечения и дорогостоящих лекарств. Жалкой пенсии отца и мелких подработок едва хватало для скудной жизни впроголодь. Старшие братья, едва достигнув совершеннолетия, пошли работать. Их заработок мало что изменил в материальном положении семьи. Неквалифицированная работа не приносила денег. И все же, когда встал вопрос, что делать младшему, Павлу, по окончании школы, старшие братья сказали твердо и бесповоротно: «Пусть идет учиться! Мы все сделаем для этого!»…
Евсеев взял блокнот и вышел на крыльцо. По поселку еще прокатывались отзвуки только что закончившегося, наполненного нелёгким трудом, рабочего дня. Слышались чьи-то возгласы, смех, фырканье лошадей, которых распрягали на конюшне. Кто-то орал на детей, пытаясь загнать их домой. Ранние сумерки, спускающиеся с чистейшей прозрачной сини, умиротворяя суетность, гасили желания производить излишние усилия.
Евсеев прошел к лавке у забора. Что-то заставляло его добавить еще несколько строк к материалу. Аккуратным, четким почерком принялся записывать, еще не очень определенные по смыслу де?ла, мысли.
Глава 4
Вечер наступал исподволь, будто его навеяло слабым ветерком. Его дуновение приносило пряные запахи с лугов и лесных распадков. Закончив, Евсеев встал и с удовольствием потянулся. С места, где он стоял, виднелись дальние дворы поселка. Оттуда доносились звуки популярного танго. Сладкий голос тенора патефонным тембром чувственно выводил мелодию известнейшей песни.