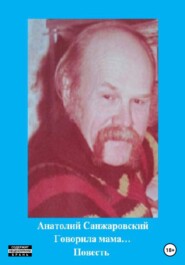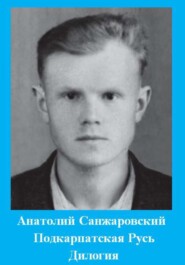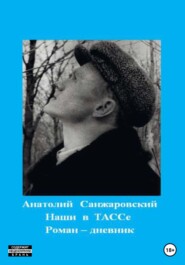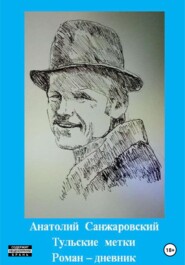По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кавказушка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После училища уже перед войной тянул Вано дорогу от Сухума на Адлер. Эшера, Новый Афон… Всё его места…
"Строил сынок… Как знать, может, на то и строил, чтоб я сейчас быстрей приехала к нему…"
Глянет Жения в окно – море неспокойное разламывается. Глянет в окно напротив – зелёные скобки гор причудливо льются одна дальше другой.
Горы Родины медленно уходили назад, приседали…
В Туапсе Жения сошла с поезда и почерепашилась дальше пешком.
Было на ней всё чёрное: на голове креповая накидка, платье с долгими рукавами, чулки, лёгкие самодельные чустры (тапочки). Чёрными были и чемоданищи, свисавшие с плеча и закрывавшие её спереди и сзади до самых колен. Сверху глянь – чёрный жук плетётся.
Припекало солнце. Было парко.
И не так донимало солнце, как жгли своей тяжестью чемоданы. Горько было видеть эту былинку на ветру. Бедная росточком, худенькая, откуда только и шли к ней силы тащить эти громоздкости?
Она заслышала сзади машину. Оттопырила чуть в сторону руку, насколько позволяли чемоданы.
Вильнув к боку дороги, машина пристыла со вздохом.
Вровень с бортами алели в кузове яблоки врассып.
В кабине двое в военном.
– Швилебо! Мэ!.. [7 - Швилебо! Мэ!.. – Сынки!.. Я!..] – зачастила Жения, с коротким поклоном пробуя поднести руку к груди. – Драсти! Гэлэнжик!.. Госпитал!.. Син!..
Шофёр кивнул.
Сидевший рядом парень, не снимая с плеча автомата, определил чемоданы в кузов подальше от борта. Подсадил её на своё место. Сам на подножку.
С одной попутки Жения перекочёвывала на другую.
Однако к вечеру в Геленджик так и не выкружила.
Лиловой тяжестью наливались сумерки, когда она, еле переставляя ноги, постучалась в угрюмый придорожный домок на отшибе горного селения. Тукнула негнущимся, затёкшим пальцем в шибку, будто птица клювом ударила.
Вышедшей на стук пасмурной женщине сунула председателеву справку.
Женщина отвела от себя её руку со справкой.
– Да кому, ходебщица, твои бумажки читать? Не грамотейка я… Ты на словах скажи, кто ты, чего надо. И говори громше. А то у меня особая примета – совсемко глуха, как осиновый пень.