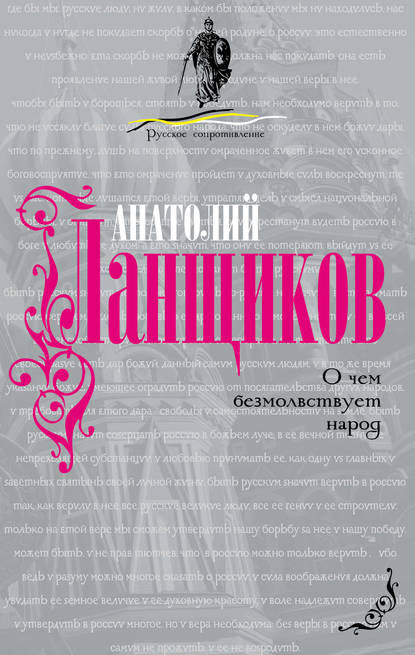По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О чем безмолвствует народ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, детские сны и грезы пророчили Алексею Егорову ту жизнь, которой не суждено было осуществиться, и во многом по его собственной вине.
Наше поколение как-то смолоду потянуло на исповедь. Первые журнальные публикации, первые книги… и появляется термин «исповедальная» проза, призванный указать на главную особенность новой писательской генерации. Однако «исповедальная» проза оказалась как раз менее всего исповедальной. Впрочем, она и не могла быть иной, поскольку на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов наше поколение хотя и имело уже какие-то индивидуальные признаки, но еще не имело судьбы, а стало быть, и права на исповедь.
Преждевременная исповедь отталкивает нескромностью своих претензий, а запоздалая – оставляет равнодушным к неуместной в данном жанре мудрости. «Есть время для любви, для мудрости – другое», – сказал когда-то Пушкин. И опять оказался прав. Видимо, и для исповеди есть свое особое время. Во всяком случае, «исповедь» Олега Михайлова выгодно отличается от многих произведений, претендующих на искренность, но чаще всего отдающих неуместным публичным обнажением.
1982
Деревня и «деревенская» проза
…вопрос о земельной собственности есть основание всей истории Европы, и земля является в ней всегда самым могущественным фактором цивилизации.
Лоренц Штейн
1
Термин «лирическая» проза – так поначалу называлась проза о деревне – стал входить в широкий оборот в середине прошлого десятилетия, когда «исповедальная» литература в силу разных причин, в том числе и за недостатком на нее читательского спроса, явно пошла на убыль. «Лирическую» прозу тогда справедливо связывали с именами Федора Абрамова и Михаила Алексеева, Виктора Астафьева и Василия Белова, Сергея Крутилина и Виктора Лихоносова, Евгения Носова и Василия Шукшина. Правда, сам термин «лирическая» проза оказался недолговечным (хотя им пользуются изредка и теперь) и уступил место столь же условному термину – «деревенская» проза.
Нужно заметить, что и «лирической» прозе иногда было свойственно обращаться к повествованию от первого лица, но если «исповедальный» герой пытался по преимуществу раздвигать границы своих личных прав, противопоставляя личные интересы интересам остального общества, и тем самым привлекал к своей персоне внимание, в основе которого порой лежало простое удивление, то герой «лирической» прозы как бы сместился в сторону, ушел в тень, и в центре нашего внимания оказался не он сам, а окружающий его мир с его истинными конфликтами и жизненными противоречиями. Эгоцентризму и элитарным наклонностям «исповедального» героя он противопоставил истинный демократизм.
В конце шестидесятых – начале семидесятых годов даже противники «деревенской» прозы вынуждены были признать ее ведущее положение в современном литературном процессе, хотя и пытались по-прежнему целой системой оговорок как-то умалить ее значение. К таким оговоркам следует, в частности, отнести и толкование «овечкинского» направления, наиболее законченно прозвучавшее в выступлении Б. Анашенкова. Суть его сводилась в основном к следующему: литература о деревне развивалась и развивается совершенно автономно, независимо, скажем, от литературы о Великой Отечественной войне или о рабочем классе. По мысли Б. Анашенкова, литература развивается от жанра к жанру, и в ненарушении этого порядка он видит залог успешного ее развития: сначала появляется очерк, затем некий переходный жанр и только потом уж «чистая» проза. «Сколько лет, – пишет он, – разделило те же «Районные будни» и, скажем, «Привычное дело» Белова. И такие они разные, эти вещи, что литературные критики уж и связей никаких тут не улавливают». И нам сразу же рекомендуются эти связи: «В этом смысле «Деревенский дневник» (Е. Дороша. – А. Л.) явился как бы переходным мостом от деревенского очерка 50-х годов к деревенской прозе наших дней». И совсем уж категорично: «…без Овечкиных не было бы и Дорошей…».
Выстроив в такой ряд жанры и писательские имена, Б. Анашенков выводит из этого построения универсальный закон развития литературы, пытаясь на его основании спрогнозировать, в частности, дальнейший путь развития рабочей темы. «Думаю, что и рабочая тема как некая рубрика, графа, отступит на задний план после появления «Рабочего дневника», равного «Деревенскому…» В том, что «Рабочий дневник» рано или поздно появится, я не сомневаюсь».
Собственно говоря, вся концепция Б. Анашенкова укладывается в название его статьи – «Сначала будет очерк».
Настораживает умозрительность предлагаемой концепции. Во-первых, авторы ее, начиная вести по непроясненным причинам родословную современной прозы о деревне от очерков Овечкина, в какой-то мере невольно игнорируют развитие традиций русской литературы в творчестве современных писателей (им, вероятно, кажется, что ни Федор Абрамов, ни Михаил Алексеев, ни Василий Белов, ни Юрий Галкин, ни Сергей Крутилин, ни Виктор Лихоносов, ни Борис Можаев, ни Евгений Носов не имеют ничего общего ни с Львом Толстым, ни с Иваном Тургеневым, ни с Глебом Успенским, ни с Иваном Буниным), а заодно оставляют за бортом почти тридцатилетний опыт самих советских писателей, в том числе и опыт Михаила Шолохова. А если уж говорить о Василии Белове, то просто немыслимо выставлять его ближайшими и единственными предшественниками Ефима Дороша и Валентина Овечкина и одновременно умалчивать, например, об Александре Яшине, хотя, конечно, разговор ограничиться здесь не может и Яшиным, поскольку творчество Белова опирается на более обширные традиции, которые не сводятся к двум-трем именам.
Во-вторых, они в этой концепции видят главное не в преемственности и развитии духовной жизни народа и отражении ее в литературе, а лишь в «правильном» взаимодействии жанров, точнее, в соблюдении определенной очередности освещения того или иного жизненного явления каждым жанром. Между прочим, Б. Анашенков прямо утверждает: «Я выписываю столь подробно кривую движения деревенской прозы, пытаясь уловить взаимодействие различных жанров, роль и место критики в этих процессах потому, что предвижу точно такие же ступени и в развитии литературы о рабочем классе».
Но если говорить о взаимодействии жанров, так зачем же оставлять за бортом этого разговора поэзию, ведь она как-никак тоже жанр. И неужели поэзия Сергея Есенина, Михаила Исаковского, Александра Твардовского, Александра Яшина так уж и не сыграла никакой роли в становлении современной прозы о деревне? Или этот жанр вообще некоммуникабельный и, по мысли авторов концепции взаимодействия жанров, поэзия Николая Рубцова меньше «взаимодействует» с «Привычным делом» Василия Белова, нежели, к примеру, очерки Георгия Радова?
2
В статье «Читая Толстого» К. Симонов, говоря о войне 1812 года, справедливо замечает: «В России никому не приходило в голову связывать со словом «отечество» другие европейские войны начала девятнадцатого века, в которых участвовали русские войска, скажем, итальянский и альпийский походы Суворова[1 - Здесь явная неточность: альпийские походы Суворова принадлежат концу восемнадцатого века.] или кампании 1805–1807 годов». Вот в том-то и дело, что не всякую войну назовешь отечественной, а только ту, которая вторгается в судьбы каждого и в судьбу народа в целом, а сам народ исполняет свою историческую освободительную миссию. И правду такой войны можно выразить лишь через правду народного характера, искать же ее вне такого характера – значит отводить народу в истории второстепенную роль.
Если бы Лев Толстой изображал в «Войне и мире» не отечественную войну, то он, вероятно, показал бы Наполеона великим полководцем, но в отечественной воине подлинно великим может быть только народ, ибо разбуженный гений народа сильнее воли любого, даже гениального человека.
И мы обращаемся к периоду Великой Отечественной войны потому, что этот период, повторяю вновь, был одним из важнейших этапов в развитии нашего национального характера и без глубокого философского осмысления Великой Отечественной войны вряд ли возможно проникнуть в подлинную сущность последующих событий и жизненных явлений, не растеряться под напором достоверных жизненных фактов.
И тут достаточно вспомнить хотя бы стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», написанное им в первые же месяцы войны. Представьте себе: молодой, до мозга костей городской человек, с довольно широким и масштабным диапазоном виденья, и вдруг…
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Откуда это? Война! Война дала то прозрение, к которому можно было идти долгие годы, всю жизнь, но так к нему и не прийти. И биография этого прозрения уложена здесь же, в строках стихотворения: «Не знаю, как ты, а меня с деревенскою дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и песнею женскою впервые война на проселках свела». Вот тот маршрут по родной земле, который позволил поэту без тени фальши и без какого-либо верноподданничества сказать о Родине высокие и пронзительно-искренние слова.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
Удивительные стихи! Их можно читать хоть тысячу раз, и все равно в них не исчезнет звучание пронзительного драматизма, которое невозможно придумать, которое можно только исторгнуть из самых сокровенных и заповедных мест души. И если такие стихи «пришли», их невозможно не написать. И главное тут вовсе не в том, что вот, дескать, городской человек наконец-то додумался, что родина – это не дом городской… Нет, и «дом городской» – это родина, и никакая не вторичная, а самая настоящая, самая первичная.
Читая современную прозу о деревне, невольно вспоминаются строки: «Ты знаешь, наверное, все-таки родина…» Тут важно то, что в душе городского человека, который празднично жил, произошел сдвиг в сторону подлинной демократизации чувств и мыслей, сдвиг бескорыстный и необратимый, хотя, разумеется, не столь очевидный, как нам это представляется теперь, спустя десятилетия. И нынешний интерес нашей литературы к деревне, к ее судьбе, объясняется прежде всего тем, что талантливые писатели, естественно наиболее чуткие к важнейшим жизненным процессам современности, увидели в настоящей деревне узел таких противоречий и конфликтов, которые нельзя не назвать историческими, что в первую очередь связано с ломкой старого (в чем-то еще патриархального) уклада жизни, ломкой, вызванной интенсивной индустриализацией деревни. Конечно, прогресс – дело хорошее, однако не дай бог нам забыть уроки минувшей войны, которая многим открыла истину, что родина – это не только «дом городской».
Я обращаюсь к этим стихам К. Симонова не потому, что он открыл и запечатлел в них какую-то недоступную другим истину, а потому, что ему, на мой взгляд, удалось своевременно выразить чувство, которое в то время посетило миллионы людей. Естественно, в дальнейшем на это чувство наслоилось множество других, и Симонов, кажется, остался более верным другим впечатлениям, которыми обременила его война.
Но то чувство не погибло, оно глубоко ушло в почву народного сознания и через два десятка лет, окончательно созрев, отозвалось многими совершенными произведениями художественной литературы. В продолжение этих двух десятилетий растущий ствол давал боковые побеги (как слабые, так и сильные), однако сезон плодоношения был еще впереди, и пришелся он на середину прошлого десятилетия, совпав с началом серьезных изменений в самом деревенском укладе. И город тут не был сторонним наблюдателем. Поэтому-то мы и не можем считать ни Федора Абрамова, ни Михаила Алексеева, ни Виктора Астафьева, ни Василия Белова, ни Виктора Лихоносова, ни Бориса Можаева, ни Евгения Носова, ни Валентина Распутина, ни Василия Шукшина «деревенскими» писателями, если даже они своим происхождением или своими нынешними интересами связаны с деревней, они не в меньшей степени (в силу своего образования, рода занятий, жизненного опыта и гражданского темперамента) интеллигенты, нежели писатели, пишущие на темы «недеревенской» жизни, и, в общем-то, не деревню они «показывают», а отношение современного интеллигента, современного городского человека к укладу деревенской жизни и к истории крестьянского миросозерцания. А то, что они во всех подробностях знают деревню, не может быть поставлено им в упрек, как не может им быть поставлена в упрек их искренняя любовь к трудовому человеку земли.
Объективные противники «деревенской» прозы с непадающим упорством пытались хоть как-то принизить ее значение в современном литературном процессе. И термин-то какой придумали – «деревенская» проза. Одним этим термином можно было убить к ней всякий интерес. Однако не убили. И дискуссии следовали одна за другой. Но все попытки отодвинуть «деревенскую» прозу на периферию литературного процесса желаемого результата не дали, хотя, нужно признать, многие вопросы, связанные с этой литературой, были достаточно запутаны.
3
Вспомним очерк В. Травинского «К портрету державы» («Знамя», 1967, № 11). Автор очерка ни мало ни много предложил перевести все сельское хозяйство Российской республики на Камчатку (там обнаружены естественные горячие источники, используя которые можно построить обширнейшие, гигантские парники). Я не стану критиковать эти фантазии с точки зрения их выполнимости, экономической целесообразности и стратегического благоразумия. Меня интересует сейчас другое – люди, а конкретнее, люди деревни, которых основательно затрагивают фантазии Травинского.
И вот как предлагается решить их судьбу: «Проблема освободившейся земли и непристроенных рук? Для России[2 - А почему именно для России? Если в том виден прогресс, то как-то неудобно начинать именно с России. Если же это не прогресс, так зачем все это и затевать.], во всяком случае сегодня, это не проблема. 19 миллионов колхозников и 7 миллионов работников совхозов (прибавьте к этой цифре членов их семей, и вы получите численность крупного европейского государства. – А. Л.), участвовавших в сельскохозяйственных работах в 1964 году, сей момент нашли бы применение в промышленности Сибири и Дальнего Востока, снабди их жильем и едой».
Это точно очень сказано: не «домами» или «квартирами», а «жильем». Травинский полагает, будто крестьянину не нужны ни школы, ни университеты, ни театры, дай ему только харч и крышу и можешь гонять его по всему белому свету. Я не стану дальше комментировать смелые прожекты В. Травинского и отважусь сам пофантазировать. Представьте себе, кто-то написал очерк, в котором предложил бы, обеспечив едой и жильем, переселить в Сибирь и на Дальний Восток не крестьянство, а… интеллигенцию. Тут бы пошли такие аналогии и такой подтекст (хотя бы в связи с географией), что не приведи господь!
Удивительная вещь: стоит кому-то из писателей выразить свою любовь к деревне чуть погорячей, как у него находится масса оппонентов, доказывающих опасность и несвоевременность любви к деревне. Но вот у В. Травинского почему-то не обнаружилось ни одного оппонента. То ли все согласились с ним, то ли не придали его инициативе особого значения…
Или вот, насчет жилья.
Разгорается, к примеру, спор о том, в каком доме жить крестьянину. Писатель Б. Можаев поет чуть ли не гимн русской печке и призывает вообще к осторожности при проведении «переселенческих мероприятий». Казалось бы, надо внимательно прислушаться к голосу «деревенского» писателя. Но не тут-то было. Против него широким фронтом выступают всякие «специалисты». (У нас порой побывает человек раз-другой на селе в командировке, как его уже считают специалистом по деревне.) Можаева дружно обвиняют в равнодушии к нуждам сельского жителя, доказывая, что газ, водопровод, канализация и прочие удобства есть благо, а не зло, хотя сам Можаев никогда не доказывал обратного. Но получается так, будто Можаев и есть тот самый недоброжелатель, усилиями которого деревня до сих пор не пользуется всеми достижениями цивилизации.
Но в ходе спора мало-помалу выясняется, что в компенсацию за газ идет вовсе не только русская печь, туда же идут: изба, двор и сама деревня. Оказывается, чтобы получить газ и водопровод, крестьяне должны съезжаться в многоэтажный дом, то есть не газ должны подвести к крестьянину, а крестьянина к газу, а это не одно и то же.
А все-таки любопытно: неужели Б. Можаев воспевал русскую печь и защищал крестьянский двор только в силу своей отсталости или лютой нелюбви к цивилизации? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо выяснить, что же это такое – крестьянский двор (с избой, хлевом, огородом и т. д.), но выяснить не только с точки зрения абстрактных удобств или неудобств.
Жизнь в деревне – это не только труд на свежем воздухе, но еще и определенный уклад, к которому можно, конечно, привыкнуть или не привыкнуть, но который полностью нельзя преодолеть, ибо он сложился не в силу чьей-то прихоти или случайности, а в силу определенных исторических закономерностей. Конечно, из этого уклада что-то постоянно уходит, а что-то новое в него постоянно приходит, и жизнестойкость его только подтверждает мысль о его постоянном совершенствовании. И вот теперь, отбросив всякие споры, хотелось бы на нескольких примерах показать, в чем же сущность этого уклада, опирающегося на крестьянский двор.