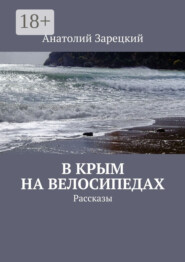По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На излёте, или В брызгах космической струи. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собственно, квартиры там, как таковой, не было. Когда нас переселили из лагеря военнопленных, отцу выделили ее как комнату в коммуналке. Просторная, с высокими потолками, она размахнулась на 35 квадратных метров. Ее перегородили деревянной перегородкой, получив две комнатушки и небольшой уголок у печки. Был еще и чуланчик – типичная девятиметровка, но без окон.
Топили в основном углем. Запасы дров и угля хранили в сарайчике, расположенном во дворе. Во дворе размещались и «удобства» – в большом кирпичном сарае. В детстве поход в туалет был для нас, детей, пыткой. Причем не только зимой, но и летом. Там жили гигантские крысы, которые никого и ничего не боялись. Они копошились в громадной куче бытовых отходов, которые сносили жители близлежащих домиков. Поговаривали, что крысы нападали на детей. Так ли это, не знаю, но без палки мы, дети, да и женщины тоже, в туалет не входили. Дежурная палка всегда стояла у входа.
Воду для всех нужд брали все в том же надворном туалете, где была единственная на всю округу раковина с водопроводным краном. Ее носили оттуда, как в деревне – ведрами на коромыслах. Лишь года через два прямо в наш чуланчик провели водопровод.
Купаться ходили в баню, которая располагалась довольно далеко – за городком общежитий «Гигант». Странное название этой бани – «Лазня», в детстве очень веселило, пока не узнал, что по-украински это слово, собственно, и означает «баня». А рядом была еще более забавная вывеска «Перукарня», хотя там ничего не выпекали, то была парикмахерская. А дальше – совсем непонятное «Пико. Плисе. Гофре» и «Панчохи та шкарпетки». По подобным вывескам я и учился читать, а заодно осваивал украинский язык.
Когда мне было лет десять, дом газифицировали. Большую печь сломали, а на ее месте появилась компактная газовая. Уголок у печки разгородили, а в громадной общей прихожей установили необычные газовые плиты, заменившие привычные керосинки и керогазы. Вскоре, по всеобщему согласию, прихожую перегородили, и получились три небольшие кухоньки. Самая удобная оказалась у нас. Она единственная вышла не проходной, как у соседей, и стала только нашей кухней-прихожей. Благодаря этой самодеятельной перестройке, в каких-то документах, составленных комиссией по инвентаризации, все это безобразие почему-то обозвали трехкомнатной изолированной квартирой, а потому отца долго не ставили в очередь на улучшение жилищных условий.
И вот их, наконец, «улучшили», как оказалось, всего на один квадратный метр. По проекту новая квартира значилась двухкомнатной, площадью 36 квадратных метров. Но «умельцы» быстренько установили дебильную кирпичную перегородку, разделив большую комнату на две маленькие – восьмиметровку и шестнадцатиметровку. Заодно разделили пополам и единственное большое окно, выходящее на лоджию, отчего обе комнаты стали темными. Даже днем в них наблюдался устойчивый полумрак, усугубляемый постоянно закрытыми занавесками.
– Батя, как же ты, следователь, допустил, что тебя так бессовестно нагрели с этой квартирой? – спросил отца, едва сели за стол.
– Что нагрели, то нагрели. В ордере они ее записали трехкомнатной, а общую площадь вписали в графу «Жилая». Когда уличил, начальник тюрьмы сказал по-простому: «Ты, Афанасий, уже пенсионер. Не хочешь, не бери. Желающие найдутся, а ты снова будешь лет десять первым на очереди, пока еще один дом не построим. А там, глядишь, она тебе вообще не понадобится». Так-то. Грубо, но доходчиво. А когда ему сказал, что в ордер почему-то не включили невестку с внуком, рассмеялся. Вот тебе и выход, говорит, думай. Так что неизвестно, сынок, кто кого нагрел. Вот я и подумал. Пусть Сашка с Тамарой и Сережей там остаются. А тут ты еще появился. На троих нам эту квартиру могут и не оставить, а на четверых обязаны.
– Батя, я в Москве буду жить. Там теперь моя семья. Вот оформлю документы и поеду, – невольно сообщил всем о своих планах. За столом наступила гнетущая тишина.
– А ты с нами посоветовался, прежде чем принимать такое решение? – тут же взорвалась мама.
– Мама, ты меня удивляешь. Вы сами определили меня в военное училище. Оттуда, тоже меня не спросив, направили служить в Казахстан. Если бы остался в армии, все время службы прожил бы в Ленинске. Таких там полно, кто еще с основания города живет. И лишь лет в сорок пять вырвался бы оттуда. Да еще неизвестно, где бы мне предоставили жилье. Одному подполковнику, нашему земляку, обещают квартиру аж в Чирчике. А он уже эту Азию на дух не переносит.
– Ты бы все равно в Харьков приехал, как сейчас, – продолжила гнуть свою линию мама.
– Я не знаю, что с нами будет через семнадцать лет. Да мне это уже не интересно. Я уволен из армии, и сейчас никто. Фактически на нулевой отметке, как у нас говорили в части. Самое время подумать, как жить дальше. Вот я и думаю. В Москве масса предприятий по моему профилю, а в Харькове – всего одно, и то не по моей специальности. Да и моя семья живет в Москве.
– Работать можно, где угодно, – все еще пыталась спорить мать. Отец же, похоже, все понял и теперь сидел, нахмурившись и не ввязываясь в разговор, – А эта твоя семья еще неизвестно, примет ли тебя на свою жилплощадь. Тебе не стыдно примаком быть? Ты еще не знаешь, что такое с тещами и свекровями жить, – продолжала она агитировать и запугивать.
– Мама, я не хочу работать, где угодно. Мне хочется работать в конструкторском бюро. Мне нравится именно такая работа. В Москве уже договорился обо всем. Меня берут старшим инженером в наше Центральное конструкторское бюро. Можно сказать, по блату, потому что знают много лет по работе. Был я и в институте радиоэлектроники. Там готовы принять сразу на четвертый курс на вечернее отделение. Ну а про все остальное и говорить не хочется. Не примут на жилплощадь, буду думать, что делать. Знаю только, будет работа, будет и жилье.
– Ладно, давайте завтракать, а то все стынет, – прервал наш спор отец. Я облегченно вздохнул. Первое сражение, похоже, выиграл. Но, увы, вряд ли оно последнее, и сколько их еще предстоит, пока буду «отдыхать» в Харькове, не знаю. Но, думаю, немало. Мама у нас человек упорный.
После завтрака решил съездить на старую квартиру. Там прошли мои детство и юность. Там осталось все из прежней жизни. А здесь – как в гостях. Лишь изредка на глаза попадется то один, то другой предмет, напоминающий о прошлом. Даже мебель и та другая. Ею мама уже похвалилась еще в день приезда. На нее, оказывается, копили деньги, которые им отсылал. Года три назад записались в очередь, а она до сих пор не подошла. Все решилось проще – у отца впервые в его долгой жизни появился «блат» в мебельном магазине. Оказалось, грузчиком там работает его бывший сослуживец по лагерю военнопленных. Он-то и организовал отцу контакт с мебельными спекулянтами, а потом сам отобрал мебель прямо на складе и доставил на новую квартиру.
Едва заявил о своем желании, тут же захотели ехать все, включая Тамару с младенцем. Ехать таким табором совсем не хотелось, но выбора не было.
И вот мы уже громыхаем ступенями открытой железной лестницы, ведущей на второй этаж родного дома. Я не был здесь целых два года. На веранде тепло встретила наша соседка тетя Дуся – интеллигентная женщина, бывшая балерина. Сколько ее помню, она нигде не работала. Нас это немножко удивляло, потому что детей у нее не было, и ей не за кем было ухаживать. Однажды она пригласила меня с братом в свою комнату и угостила пирожными. Ничего подобного мы еще не пробовали. Но больше, чем пирожные, удивили развешанные по стенам комнаты старые театральные афиши. На некоторых была изображена молодая тетя Дуся в балетной пачке. Тогда-то мы поняли, кем в молодости была наша соседка. Тогда же узнали, что балерины очень рано выходят на пенсию.
Пока мама разговаривала с соседкой, а остальное сопровождение неспешно втягивалось в квартиру, немного постоял на своем любимом месте веранды. Как всегда, нахлынули воспоминания.
Помню, как троица наших давних «врагов» во главе с Толиком по кличке Фриц загнала меня с братом сюда – на эту веранду. Не решаясь преследовать на пороге квартиры, ребята начали бросать камни. Они не долетали и лишь грохотали по железной лестнице, а мы в ответ дразнили Фрица и смеялись над ним. Он и его друзья уже пошли в первый класс, а мы с братом нет. И нам было весело оттого, что такой большой не может добросить камень до второго этажа. У меня это давно получалось. Его товарищи уже отошли от лестницы, а Фриц все не унимался.
И вдруг увидел, что кусок кирпича, брошенный Фрицем, не отскочил от железа, а, скользя вдоль ступени, на мгновение задержался на лестнице. Недолго думая, остановил эту четвертушку кирпича ногой. Теперь я был вооружен. Фриц это понял и тут же отбежал подальше от лестницы. Но, я уже метнул свой снаряд. Как в замедленных кадрах кинохроники и сейчас вижу тот красный камень, который, отскочив от асфальта, какими-то замысловатыми прыжками приближается к противнику. Он же, оторопев от ужаса, смотрит на скачущий к нему увесистый предмет и почему-то не может сдвинуться с места. Наконец камень с силой ударяет его прямо в щиколотку. Фриц приседает от боли и оглашает весь двор громким ревом. Нам его не жалко – получил по заслугам. Мы торжествуем победу.
После того случая он нас больше не трогал, и одно время мы даже ненадолго подружились. И вот мы стоим втроем на этом же месте веранды и во весь голос распеваем странную песню. Я запомнил только припев.
Ице русин прахом пидэ,
Кегда захоцемо!
Откуда она взялась, та песня, не знаю. Я почти не понимал ее смысла, потому что она на незнакомом языке. Неожиданно у крыльца остановилась хорошо одетая дама.
– Мальчики, – обратилась она к нам, – Вы хоть понимаете, что поете?
– А як же, – ответил ей почему-то по-украински.
– Та вы що, ляхи скажэнни? – спросила она, пристально присматриваясь, – Йды-но сюды, хлопче, – обратилась она ко мне, даже не дождавшись нашего ответа. Мы спустились к ней втроем. А она очень внимательно вглядывалась то в меня, то в Толика Фрица. Мы не знали, что подумать.
– Я живу вон в том доме. Пойдемте ко мне, мальчики. Заодно и познакомимся. Я вас чаем с конфетами угощу, – неожиданно предложила она.
Взрослая тетя захотела с нами познакомиться. Это было удивительно. Кто же откажется от чая с конфетами осенью пятьдесят первого года, когда и хлеб был не всегда. Но, что ей от нас надо? Посовещавшись, все-таки согласились, а Сашку оставили на веранде. Пусть видит, куда пойдем. Конечно же, конфет ему пообещали принести.
И вот мы оказались в просторной, почти пустой и очень светлой комнате. Свет шел не только из огромных окон, но и откуда-то сверху. Посреди помещения стояло странное сооружение. А когда женщина сняла с него покрывало, увидели гигантскую картину. На ней был изображен товарищ Сталин. Он сидел за большим письменным столом, а вокруг него в разных позах расположились дети. Некоторые уже выглядели, как живые, а другие были еще только намечены углем. Пока разглядывали картину, женщина принесла чай и коробку шоколадных конфет. Таких мы еще не видели. В лагере меня угощали шоколадом, но он был в плитках. Уже здесь мама иногда покупала нам конфеты-подушечки. А это было нечто особенное. Я скромно взял две конфетки – для себя и для Сашки. Толик, глядя на меня, тоже взял две. Но оказалось, они быстро тают в руках. Женщина рассмеялась.
– Не стесняйтесь, мальчики. Берите, сколько хотите, но по одной. А что останется, возьмете потом с собой, прямо в коробке. Ну, так кто тут из вас поляк? – спросила она. Мы молчали, – А почему поете по-польски?
Мы продолжали смущенно молчать. А женщина продолжила допрос.
– Какие языки знаете кроме русского и украинского?
– Ихь фэрштэе унд шпрэхе дойч, – ответил ей, как сказал бы немцам.
– Надо же! – вдруг удивленно и радостно воскликнула она, – Так ты немец, а не поляк?
– Я не немец и не поляк, – ответил странной тете, не понимая, что ее так обрадовало.
– Странно, – неожиданно расстроилась женщина, – Мальчики, вы оба очень похожи на немецких детей. Я художница. И мне надо нарисовать немецкого пионера. Мне бы повезло, если бы кто-то из вас оказался настоящим немцем. Я бы его нарисовала на этой картине рядом с товарищем Сталиным, – наконец разъяснила свой интерес к нам художница.
– У меня папа настоящий немец. Его звали Адольф. А мама русская, – вдруг тихо сказал Толик Фриц. И я внезапно понял, откуда у него такая странная, оскорбительная по тому послевоенному времени, кличка.
– Он правду сказал, тетя, – поддержал товарища, хотя и догадался, кого она будет рисовать рядом с вождем, – Его потому все Фрицем зовут.
– Правда? – снова обрадовалась художница. Толик только кивнул низко опущенной головой.
А вскоре Фрица переодели в голубую рубашку и даже повязали красный галстук, хотя он и не был пионером. Его посадили рядом с картиной, и художница начала рисовать. Я впервые увидел, как рисуют картины.
Несколько дней подряд мы приходили к художнице. Каждый раз она угощала нас чаем с шоколадными конфетами. И постепенно на картине рядом с товарищем Сталиным, совсем как живой, возник Толик Фриц в синем галстуке немецкого пионера.
И снова я стою на своем привычном месте. А мимо проходит первая осень моей несчастной любви. Моросит мелкий дождик, и душа плачет из солидарности. Природа тихо умирает вместе с надеждой на счастье быть рядом с любимой. Весь двор засыпан желтыми листьями цвета разлуки. А откуда-то с верхнего этажа дома напротив доносится негромкая душераздирающая песня – чья-то непреходящая боль.
Шпав жувтэ калэндажэ,
Жувтэ калэндажэ шпав.
Что ж, только и остается – сжечь желтый календарь ушедшей жизни. А что дальше? «Я никогда тебя не забуду, Людочка», – вдруг как заклинание повторяю про себя фразу, с которой плакал в детстве. А сейчас она всплыла в памяти и, похоже, поселилась там навечно, как и бесконечная любовь к моей миленькой подружке, неожиданно ставшей недоступной, чужой.
А вот и она – моя богиня. Легкой походкой она неслышно проплывает над ковровой дорожкой из осенних листьев. Ее гордо поднятая красивая головка так и не качнется в сторону моего приюта, обрекая на вечное одиночество. Она скользнула как легкий ветерок, не возмутив природу, но всколыхнув океан безнадежно любящей души.
Резкий взмах руки и самодельный кинжал глубоко вонзается в древесину подоконника веранды. Вспышка бессильной ярости, обращенная в молнию разящей стали, поглощена рассеченными волокнами мертвой материи. Смерть поглощает все. Чья смерть?
Людочка – это моя жизнь. Людочка – это подарок судьбы, вечную жизнь сулящий. Людочка – это память о первом, еще неизведанном волнении сердца. Людочка – это моя любовь навсегда. Живи, любимая. Живи радостно и счастливо. А я буду тихо стоять в сторонке, как сейчас, и любоваться твоей неземной красотой, чувствуя каждый твой вздох, каждый удар твоего сердца, словно ты это я – недоступная половинка моей бессмертной души.