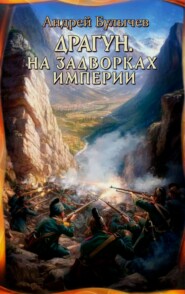По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Егерь Императрицы. Унтер Лёшка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Баловство это всё, пустое! Нечета мы, служилые дворяне, целым князьям. Позабавится она с тобой, Лёшка, и за графа какого-нибудь потом замуж выскочит, а ты вон так будешь себе сопли на кулак наматывать, жених! Тебе бы сначала чин поручика выслужить и какое-никакое худое именьице с парой десяткой душ прикупить. Или же за доблестную государеву службу всё это же выслужить. Вот потом тебе и можно будет думать о девицах да обо всяких там амурах. Да и вообще, Троекуровы теми ещё вольнодумцами у нас в губернии слывут. Не зря Иван Семёнович аж при матушке Елизавете Петровне в опалу попал и потом был вынужден совсем сюда вот, в это своё дальнее поместье, со столицы перебираться. Смотри, Лёшка, чтобы не задурили тебе голову все эти философы да поэты! – и он кивнул на книгу в толстом кожаном переплете, что была сейчас в руках у юноши.
– Да это же свод воинских уставов, батюшка, ещё от царя Алексея Михайловича собранный в одну единую книгу! А также первый устав Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Воинское Искусство», что состоял ещё век назад на Русской службе, и «Книга Марсова» нашего императора Петра Алексеевича здесь же, вместе со всеми в одну единую сведена.
– Хм, ну так бы и сказал, что ты Петровские уставы читаешь, – успокоился отец. – Это уж точно более полезным делом будет, чем французские романы и всякие там труды с измышлениями философов читать!
Глава 7. Часовой есть лицо неприкосновенное!
– Отбил, коли! Отбил, коли! Резко фузею со штыком вперёд, в живот его супостату, и сразу же резко выдёргиваем назад. Чуть дольше, Ляксей Петрович, задержите его в брюхе и не сможете вот так вот просто назад выдернуть, намертво застревает штык у него там, так и останетесь тогда без оружия в руках, а на вас-то уже новые враги наскакивают! – объяснял приёмы штыкового боя дядька Матвей. – Поэтому тут главное – это сила и резкость удара. Русский солдат всегда на штыках других побивал, и науку эту нужно обязательно кажному служивому крепко-накрепко усвоить. Вам-то, конечно, как будущему охфицеру, больше на шпагу или же саблю полагаться придётся, но ведь всякое тоже в бою может случиться, глядишь, и сей навык тоже когда-никогда, а верную службу сослужит.
И Лёшка снова ворочал тяжеленной фузеей ещё с тех Петровских времён, что служила по случаю выхода из строя её казённой части только лишь как орудие для штыкового боя. Искусство это было весьма не простое, бывало так намашешься ружьём на занятиях, что аж целый час потом руки трясутся, и ещё плечи от усталости ломит.
– Убьёт ведь, убьёт мальчишку! – голосила дворовая баба Акулина, пробегая мимо того самого места за сараями, где Лёшка занимался фехтованием и боем на штыках.
– Кто кого убьёт-то, ты что орёшь, как скаженная? – крикнул ей вслед дядька, но той уже и след простыл. – Пошлите, Ляксей Петрович, посмотрим, что там опять у дворовых стряслось, да и вам передохнуть от ратных трудов надобно, вон от соломенного чучела одни лишь обрывки только на шесте остались.
Весеннее апрельское солнышко жарко припекало Калужскую землю. Ещё недельку и совсем стает снег с полей, освобождая их для трудов рачительного крестьянина. Пока же шла усиленная подготовка к посевной. Проветривалось и подсушивалось семя, что следовало заложить в пашню, осматривались сохи, плуги и бороны, чинилась всякая упряжь для тягловой скотины и прочие приспособы. Все, как обычно, были при деле и спешили быстрее исполнить свою работу. За всем, разумеется, был строгий надзор в лице управляющего поместьем Игната Фёдоровича, старшего сына хозяина Павла ну и, конечно, самого барина Петра Григорьевича.
От семенного амбара слышался свист кнута, удары и резкие вскрики жертвы. Десяток мужиков и баб жались к жердяной оградке, наблюдая со страхом и жалостью за той экзекуцией, что происходила сейчас на их глазах. Открывшаяся Алексею картина впечатляла.
На длинной нестроганой скамье лежал зафиксированный за руки и ноги верёвками Харитошка, лучший дружок Алексея по многим их детским дворовым играм да шалостям. Был он сыном конюха, шестнадцати лет от роду и на год старше Лёшки. Характер парень имел лёгкий, весёлый да покладистый. Как и водится, с десяти-одиннадцати лет впрягся Харитон в тяжёлую крестьянскую работу, помогая семье и отрабатывая положенную барщину. Всё бы было хорошо, да у Павла Петровича как раз сегодня было весьма прескверное настроение, ну вот, видно, и подвернулся Харитошка под его тяжёлую барскую руку.
Очередной переносимый с амбара мешок ржи был, как видно, сильно подопревшим и лопнул в самое неудачное для этого время, как раз когда перед амбаром проходил старший господский сын. Зерно высыпалось в грязь буквально под самые господские кожаные сапоги. Следствие было проведено на месте немедленно. Решение его было однозначным – виноват в порче господского имущества, ибо допустил при этом своё личное разгильдяйство, халатность и недогляд. Вердикт был вынесен тут же: пороть кнутом без жалости, чтобы всем другим неповадно было, причём пороть прилюдно и незамедлительно! Следовало показать холопам всю твёрдость господской власти, ибо расслабились они за зиму, свои бока в избах у печек отогревая! Исполнение приговора было поручено проводить кучеру Савелию, а это тоже, надо сказать, был очень хитрый и весьма продуманный ход. Каждый в поместье Егоровых знал про весьма непростые и прохладные отношения между господским кучером и конюхом Осипом, и вот теперь одному из недоброжелателей представлялась возможность выместить всё плохое на сыне своего давнего недруга.
– Ещё, ещё, добавь ему плетей! – с какой-то жадной радостью приговаривал Павел, раздувая ноздри.
На спине у парня свежие рубцы обильно сочились кровью, сам же он уже не дёргался резко и не вскрикивал так истошно при каждом ударе, как это было в самом начале, а лишь судорожно вздрагивал всем телом и тихонько постанывал, уронив лицо на скамью.
Вот она, изнанка просвещённого века Екатерины в самой её красе! Барин мог забить до смерти, замучить своего холопа, продать его самого или всю его семью оптом или в розницу, разлучая мать с детьми или жену с мужем. Скотина порой жила лучше, чем простой люд в это время. Всё это Лёшка знал из курса изучаемых им ранее наук, но одно дело – знать или слышать, и другое, когда вот всё это творится у тебя лично на глазах.
– Запорет, запорет ведь насмерть! – причитала мать Харитона Марфа. Отец мальчишки стоял тут же и тяжело глядел себе под ноги, вздрагивая от каждого удара по спине сына.
Не выдержав, Марфа кинулась в грязь под ноги господину и, размазывая грязь по своему лицу, прижалась лицом к его сапогам.
– Простите мальчишку, барин, простите, Христа ради, прошу! Мы всё вам отработаем сполна! Простите его, он уже и так без памяти лежит!
– Пшла вон, дур-ра! – брезгливо оттолкнул сапогом бабу Павел. – Чё лезешь, полоумная!
Что-то вдруг перевернулось в эту минуту в сознании у Алексея. Дальше он уже действовал как будто на автомате.
– Возьми! – резкая и хлёсткая команда заставила Матвея безоговорочно схватить фузею с примкнутым штыком, а Лёшка уже тем временем подскакивал к кучеру. Левая рука парня перехватила его правую с зажатым в ней кнутом в самой её верхней точке, готовую уже опуститься вниз для очередного удара. Правая подхватила её же сбоку за плечевое основание. Подворот под тяжёлое тело. Колени резко выпрямились из полуприсяда, и Савелий под дружный «Ах-х!» дворни смачно шмякнулся на спину прямо в лужу.
Бросок через плечо проведён чисто! «Иппон!» Алексей резко развернулся и, сделав два шага, оказался прямо перед Павлом.
– Пошёл быстро к папеньке на доклад, стервец! Чуть его человека насмерть не запорол! Ну! – и Алексей сделал ещё шаг вперёд, глядя прямо в глаза взрослому мужчине. И ошалевший от всего только что здесь произошедшего, Павел, несмотря на свой возраст, положение и статус будущего хозяина поместья, вдруг как-то разом съёжился, отвёл взгляд в сторону, неловко развернулся и молча, не оглядываясь, засеменил по направлению к дому.
– Сняли Харитошку со скамьи и в избу его бегом! – бросил Алексей дворне. – А ты, тётка Марфа, в Татьяновку быстрее беги, там по осени Ваську Рыжего секли, так тётка Евдокия его за неделю после того на ноги подняла, небось, мазь какая-то ещё осталась у неё! На вот, отдадите ей, – и он протянул серебряный гривенник матери дружка.
– Спасибо, милостивец, – бухнулась снова в грязь Марфа. – Век не забуду, за тебя буду молиться.
Тут же рядом стоял в поклоне Осип, а по его лицу текла скупая мужская слеза.
– Бог в помощь, лечите Харитона, – кивнул Алексей и развернулся к Матвею. – Пошли, что ли, в дом, дядька, опять я, похоже, тебя подвёл, набедокурил снова, да?
– Хм, – глубокомысленно хмыкнул Матвей, – здесь ведь дело посерьёзней, чем все прежние шалости, Ляксей Петрович, будут. Я-то что! А вот с вас Пётр Григорьевич может теперяча очень строго за всё спросить, вы ж как-никак господскую волю перед дворней прилюдно принизили. Ай-яй-яй! Как же нехорошо-то всё тут получилось!
Алексей вдруг резко остановился и пытливо вгляделся в глаза наставника.
– Сознаюсь, погорячился я, дядька. Но что же мне, так и стоять там было, и смотреть, как мальчишку при отце, матери убивают, да?! И это за прелую-то мешковину и жмень зерна?
– Так все ведь мы в руках Господа и его наместников на земле грешной и под управлением власти кесаревой. Всегда же простому человеку безропотно положено властям подчиняться. Не к бунту же, коли несправедливость какая затеялась, теперяча-то нам идти?
– А я к бунту и не призывал никого, – буркнул Лёшка. – А всё же пустую жестокость терпеть ещё не приучился пока тут у вас, – и крепко, эдак по-взрослому выругался. – Пошли дядька, буду сам за всё отвечать перед батюшкой. Ты, главное, тверди, что не успел меня в сторону отвести, что фузеей я тебя отвлёк и в руки тебе её дал специально, вот ты и держался от меня в стороне, дабы только она мне в руки ненароком не попала! – и решительно направился к крыльцу, на верхней ступени которого уже высился сам грозный хозяин поместья. А поражённый Матвей так и остался стоять на месте, «переваривая» всё, только что им здесь услышанное. Особенно его зацепило то «солёное» выражение, какое совершенно спокойно только что тут выдал Лёшка. Ещё одна загадка к портрету его воспитанника теперь добавилась у дядьки.
– Ну что ты на этот раз мне ответишь, шельмец?! – заорал Пётр Григорьевич, потрясая кулаками. – Опять на какой-нибудь артикул императора тут будешь ссылаться, который запрещает господам своих холопов прилюдно пороть? Против родного брата перед всей дворней уже с оружием пошёл! Ты что же это, на каторгу за призыв к бунту захотел?! Отвечай сейчас же, сукин сын!
Алёшка встал по стойке смирно и чётким размеренным голосом ответил на предъявленные ему обвинения.
– Никакого призыва к бунту с моей стороны даже близко не было! Неисправная кремнёвая фузея, предназначенная для занятий штыковым боем, была передана на сохранение воспитателю Матвею, и перед той дворней она даже и не показывалась вовсе. Вмешался я в экзекуцию токмо по той причине, что все холопы, по сути, есть личная собственность помещика Петра Григорьевича Егорова, и пороть их или же даже лишать жизни может лишь он самолично или же это можно содеять по его прямому указанию. Павел же такой же сын хозяина поместья, как и я сам, и, судя по всему, он превысил все свои полномочия, не являясь напрямую хозяином провинившегося. Ведь указа батюшкиного на порку холопа не было. К тому же он чуть было не лишил жизни Харитошку и не принес тем самым прямой разор его господину. Я же очень сомневаюсь, зная ваш справедливый характер, что вы, батюшка, решились бы забить насмерть мальчишку, да ещё и на виду у его родителей. Вот потому-то и вмешался в сию экзекуцию до принятия вами самоличного и верного решения, – и Лёшка склонил голову в почтительном поклоне.
Егоров-старший хотел было по привычке заорать, но, нахмурившись, задумался. В словах «сукиного сына» был совершенно чёткий смысл, и стоило вначале всё хорошенько обдумать, а уже затем и принимать верное решение.
– Быстро к себе в комнату и до завтрашнего утра из неё не выходить, чтобы даже носу наружу не показывал! Считай себя пока под арестом, а завтра я тебе лично озвучу свою волю! – и батюшка захромал в ту сторону, откуда только что явились оба его сына.
Наутро Алексей был вызван в кабинет Петра Григорьевича, где он и выслушал его отцовскую волю.
– За прилюдное оскорбление своего старшего брата, наследника семейного имущества и фамилии, опять же за подрыв авторитета господской власти в поместье старший сержант Алексей Петрович Егоров приговаривается к ежедневному несению караульной службы по всей выкладке, при мундире и при фузее, в течение полной недели, без обеда и пития воды во время стояния на посту.
Тут же батюшкой был зачитан Указ Императрицы Всероссийской Екатерины II от 1765 года о полном повиновении крестьян помещикам и разрешении отправлять их на каторгу в Сибирь, а также Указ от 1767 года «о запрете на жалобы крепостных».
– И к Троекуровым ходить я тебе запрещаю! От них вся эта либеральность идёт, от них!
Алексей всё молча выслушал, поклонился, никаких вопросов у него не было, на душе же было муторно и пусто. Желания оставаться в поместье больше у него уже не было. Нужно было как-то выбираться в этот большой и сложный мир Российской империи XVIII века и жить дальше самостоятельной взрослой жизнью.
Неделя наказания шла мучительно медленно. Крыльцо господского дома выходило на его южную сторону, и, стоя в своей форменной чёрной треуголке, в суконном кафтане, в туго стянутых под коленями тёмных штиблетах и высоких сапогах, стиснутый к тому же широким ремнём с патронными сумками и с кожаным ранцем за спиной, Лёшка потел, глядя оловянными глазами перед собою вдаль. Самое тяжёлое время у него было после обеда. Все в доме только что заканчивали трапезу, и запахи долетали с кухни и гостиной просто одуряющие. А солнце, не по-апрельски жаркое, стояло как раз в самом зените, выгоняя обильный пот из под головного убора. И стоять ему так было ещё долгие четыре послеобеденных часа, это ещё не считая тех, что он уже отстоял утром.
– Лёшенька, я тебе мяса варёного принесла, водички вот холодненькой испей, – пыталась хоть как-то облегчить его долю добросердечная Анна. Но мальчишка продолжал стоять не шелохнувшись, стойко неся свою штрафную вахту.
Павел же издевался, как только мог, подчёркнуто громко прихлебывая из ковшика холодную воду и прохаживаясь буквально в полуметре от часового. Возмездие не заставило себя долго ждать. Как-то, слишком увлёкшись своей мелкой местью, он перешёл все дозволенные рамки и со смешком дёрнул молчаливую, как статуя, фигуру за ремень. Приклад тяжёлой фузеи неожиданно резко ударил его сверху по стопе, заставив что есть мочи заорать от боли.
– Часовой есть лицо неприкосновенное! Отойти на три шага от поста! – раздался рык часового, и в лицо отскочившего и оторопевшего от неожиданности Павла уставился трёхгранный наточенный штык.
Как ни странно, никаких неприятностей за этот инцидент не последовало, скорее всего, старый елизаветинский офицер провёл «политбеседу» со своим старшеньким, и он теперь обходил одинокую фигуру у крыльца большим полукругом.
24 апреля, в предпоследний день постовой службы, у Лёшки был день рождения. На вопрос отца, не нужно ли перенести караульный день на последующий, штрафник только молча покрутил головой в треуголке и занял свой пост.
– Упрямый, шельмец! – то ли одобряя, то ли осуждая его, ругнулся Пётр Григорьевич и зашёл в дом.
Так и прошла эта долгая и тяжёлая неделя.
– Да это же свод воинских уставов, батюшка, ещё от царя Алексея Михайловича собранный в одну единую книгу! А также первый устав Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Воинское Искусство», что состоял ещё век назад на Русской службе, и «Книга Марсова» нашего императора Петра Алексеевича здесь же, вместе со всеми в одну единую сведена.
– Хм, ну так бы и сказал, что ты Петровские уставы читаешь, – успокоился отец. – Это уж точно более полезным делом будет, чем французские романы и всякие там труды с измышлениями философов читать!
Глава 7. Часовой есть лицо неприкосновенное!
– Отбил, коли! Отбил, коли! Резко фузею со штыком вперёд, в живот его супостату, и сразу же резко выдёргиваем назад. Чуть дольше, Ляксей Петрович, задержите его в брюхе и не сможете вот так вот просто назад выдернуть, намертво застревает штык у него там, так и останетесь тогда без оружия в руках, а на вас-то уже новые враги наскакивают! – объяснял приёмы штыкового боя дядька Матвей. – Поэтому тут главное – это сила и резкость удара. Русский солдат всегда на штыках других побивал, и науку эту нужно обязательно кажному служивому крепко-накрепко усвоить. Вам-то, конечно, как будущему охфицеру, больше на шпагу или же саблю полагаться придётся, но ведь всякое тоже в бою может случиться, глядишь, и сей навык тоже когда-никогда, а верную службу сослужит.
И Лёшка снова ворочал тяжеленной фузеей ещё с тех Петровских времён, что служила по случаю выхода из строя её казённой части только лишь как орудие для штыкового боя. Искусство это было весьма не простое, бывало так намашешься ружьём на занятиях, что аж целый час потом руки трясутся, и ещё плечи от усталости ломит.
– Убьёт ведь, убьёт мальчишку! – голосила дворовая баба Акулина, пробегая мимо того самого места за сараями, где Лёшка занимался фехтованием и боем на штыках.
– Кто кого убьёт-то, ты что орёшь, как скаженная? – крикнул ей вслед дядька, но той уже и след простыл. – Пошлите, Ляксей Петрович, посмотрим, что там опять у дворовых стряслось, да и вам передохнуть от ратных трудов надобно, вон от соломенного чучела одни лишь обрывки только на шесте остались.
Весеннее апрельское солнышко жарко припекало Калужскую землю. Ещё недельку и совсем стает снег с полей, освобождая их для трудов рачительного крестьянина. Пока же шла усиленная подготовка к посевной. Проветривалось и подсушивалось семя, что следовало заложить в пашню, осматривались сохи, плуги и бороны, чинилась всякая упряжь для тягловой скотины и прочие приспособы. Все, как обычно, были при деле и спешили быстрее исполнить свою работу. За всем, разумеется, был строгий надзор в лице управляющего поместьем Игната Фёдоровича, старшего сына хозяина Павла ну и, конечно, самого барина Петра Григорьевича.
От семенного амбара слышался свист кнута, удары и резкие вскрики жертвы. Десяток мужиков и баб жались к жердяной оградке, наблюдая со страхом и жалостью за той экзекуцией, что происходила сейчас на их глазах. Открывшаяся Алексею картина впечатляла.
На длинной нестроганой скамье лежал зафиксированный за руки и ноги верёвками Харитошка, лучший дружок Алексея по многим их детским дворовым играм да шалостям. Был он сыном конюха, шестнадцати лет от роду и на год старше Лёшки. Характер парень имел лёгкий, весёлый да покладистый. Как и водится, с десяти-одиннадцати лет впрягся Харитон в тяжёлую крестьянскую работу, помогая семье и отрабатывая положенную барщину. Всё бы было хорошо, да у Павла Петровича как раз сегодня было весьма прескверное настроение, ну вот, видно, и подвернулся Харитошка под его тяжёлую барскую руку.
Очередной переносимый с амбара мешок ржи был, как видно, сильно подопревшим и лопнул в самое неудачное для этого время, как раз когда перед амбаром проходил старший господский сын. Зерно высыпалось в грязь буквально под самые господские кожаные сапоги. Следствие было проведено на месте немедленно. Решение его было однозначным – виноват в порче господского имущества, ибо допустил при этом своё личное разгильдяйство, халатность и недогляд. Вердикт был вынесен тут же: пороть кнутом без жалости, чтобы всем другим неповадно было, причём пороть прилюдно и незамедлительно! Следовало показать холопам всю твёрдость господской власти, ибо расслабились они за зиму, свои бока в избах у печек отогревая! Исполнение приговора было поручено проводить кучеру Савелию, а это тоже, надо сказать, был очень хитрый и весьма продуманный ход. Каждый в поместье Егоровых знал про весьма непростые и прохладные отношения между господским кучером и конюхом Осипом, и вот теперь одному из недоброжелателей представлялась возможность выместить всё плохое на сыне своего давнего недруга.
– Ещё, ещё, добавь ему плетей! – с какой-то жадной радостью приговаривал Павел, раздувая ноздри.
На спине у парня свежие рубцы обильно сочились кровью, сам же он уже не дёргался резко и не вскрикивал так истошно при каждом ударе, как это было в самом начале, а лишь судорожно вздрагивал всем телом и тихонько постанывал, уронив лицо на скамью.
Вот она, изнанка просвещённого века Екатерины в самой её красе! Барин мог забить до смерти, замучить своего холопа, продать его самого или всю его семью оптом или в розницу, разлучая мать с детьми или жену с мужем. Скотина порой жила лучше, чем простой люд в это время. Всё это Лёшка знал из курса изучаемых им ранее наук, но одно дело – знать или слышать, и другое, когда вот всё это творится у тебя лично на глазах.
– Запорет, запорет ведь насмерть! – причитала мать Харитона Марфа. Отец мальчишки стоял тут же и тяжело глядел себе под ноги, вздрагивая от каждого удара по спине сына.
Не выдержав, Марфа кинулась в грязь под ноги господину и, размазывая грязь по своему лицу, прижалась лицом к его сапогам.
– Простите мальчишку, барин, простите, Христа ради, прошу! Мы всё вам отработаем сполна! Простите его, он уже и так без памяти лежит!
– Пшла вон, дур-ра! – брезгливо оттолкнул сапогом бабу Павел. – Чё лезешь, полоумная!
Что-то вдруг перевернулось в эту минуту в сознании у Алексея. Дальше он уже действовал как будто на автомате.
– Возьми! – резкая и хлёсткая команда заставила Матвея безоговорочно схватить фузею с примкнутым штыком, а Лёшка уже тем временем подскакивал к кучеру. Левая рука парня перехватила его правую с зажатым в ней кнутом в самой её верхней точке, готовую уже опуститься вниз для очередного удара. Правая подхватила её же сбоку за плечевое основание. Подворот под тяжёлое тело. Колени резко выпрямились из полуприсяда, и Савелий под дружный «Ах-х!» дворни смачно шмякнулся на спину прямо в лужу.
Бросок через плечо проведён чисто! «Иппон!» Алексей резко развернулся и, сделав два шага, оказался прямо перед Павлом.
– Пошёл быстро к папеньке на доклад, стервец! Чуть его человека насмерть не запорол! Ну! – и Алексей сделал ещё шаг вперёд, глядя прямо в глаза взрослому мужчине. И ошалевший от всего только что здесь произошедшего, Павел, несмотря на свой возраст, положение и статус будущего хозяина поместья, вдруг как-то разом съёжился, отвёл взгляд в сторону, неловко развернулся и молча, не оглядываясь, засеменил по направлению к дому.
– Сняли Харитошку со скамьи и в избу его бегом! – бросил Алексей дворне. – А ты, тётка Марфа, в Татьяновку быстрее беги, там по осени Ваську Рыжего секли, так тётка Евдокия его за неделю после того на ноги подняла, небось, мазь какая-то ещё осталась у неё! На вот, отдадите ей, – и он протянул серебряный гривенник матери дружка.
– Спасибо, милостивец, – бухнулась снова в грязь Марфа. – Век не забуду, за тебя буду молиться.
Тут же рядом стоял в поклоне Осип, а по его лицу текла скупая мужская слеза.
– Бог в помощь, лечите Харитона, – кивнул Алексей и развернулся к Матвею. – Пошли, что ли, в дом, дядька, опять я, похоже, тебя подвёл, набедокурил снова, да?
– Хм, – глубокомысленно хмыкнул Матвей, – здесь ведь дело посерьёзней, чем все прежние шалости, Ляксей Петрович, будут. Я-то что! А вот с вас Пётр Григорьевич может теперяча очень строго за всё спросить, вы ж как-никак господскую волю перед дворней прилюдно принизили. Ай-яй-яй! Как же нехорошо-то всё тут получилось!
Алексей вдруг резко остановился и пытливо вгляделся в глаза наставника.
– Сознаюсь, погорячился я, дядька. Но что же мне, так и стоять там было, и смотреть, как мальчишку при отце, матери убивают, да?! И это за прелую-то мешковину и жмень зерна?
– Так все ведь мы в руках Господа и его наместников на земле грешной и под управлением власти кесаревой. Всегда же простому человеку безропотно положено властям подчиняться. Не к бунту же, коли несправедливость какая затеялась, теперяча-то нам идти?
– А я к бунту и не призывал никого, – буркнул Лёшка. – А всё же пустую жестокость терпеть ещё не приучился пока тут у вас, – и крепко, эдак по-взрослому выругался. – Пошли дядька, буду сам за всё отвечать перед батюшкой. Ты, главное, тверди, что не успел меня в сторону отвести, что фузеей я тебя отвлёк и в руки тебе её дал специально, вот ты и держался от меня в стороне, дабы только она мне в руки ненароком не попала! – и решительно направился к крыльцу, на верхней ступени которого уже высился сам грозный хозяин поместья. А поражённый Матвей так и остался стоять на месте, «переваривая» всё, только что им здесь услышанное. Особенно его зацепило то «солёное» выражение, какое совершенно спокойно только что тут выдал Лёшка. Ещё одна загадка к портрету его воспитанника теперь добавилась у дядьки.
– Ну что ты на этот раз мне ответишь, шельмец?! – заорал Пётр Григорьевич, потрясая кулаками. – Опять на какой-нибудь артикул императора тут будешь ссылаться, который запрещает господам своих холопов прилюдно пороть? Против родного брата перед всей дворней уже с оружием пошёл! Ты что же это, на каторгу за призыв к бунту захотел?! Отвечай сейчас же, сукин сын!
Алёшка встал по стойке смирно и чётким размеренным голосом ответил на предъявленные ему обвинения.
– Никакого призыва к бунту с моей стороны даже близко не было! Неисправная кремнёвая фузея, предназначенная для занятий штыковым боем, была передана на сохранение воспитателю Матвею, и перед той дворней она даже и не показывалась вовсе. Вмешался я в экзекуцию токмо по той причине, что все холопы, по сути, есть личная собственность помещика Петра Григорьевича Егорова, и пороть их или же даже лишать жизни может лишь он самолично или же это можно содеять по его прямому указанию. Павел же такой же сын хозяина поместья, как и я сам, и, судя по всему, он превысил все свои полномочия, не являясь напрямую хозяином провинившегося. Ведь указа батюшкиного на порку холопа не было. К тому же он чуть было не лишил жизни Харитошку и не принес тем самым прямой разор его господину. Я же очень сомневаюсь, зная ваш справедливый характер, что вы, батюшка, решились бы забить насмерть мальчишку, да ещё и на виду у его родителей. Вот потому-то и вмешался в сию экзекуцию до принятия вами самоличного и верного решения, – и Лёшка склонил голову в почтительном поклоне.
Егоров-старший хотел было по привычке заорать, но, нахмурившись, задумался. В словах «сукиного сына» был совершенно чёткий смысл, и стоило вначале всё хорошенько обдумать, а уже затем и принимать верное решение.
– Быстро к себе в комнату и до завтрашнего утра из неё не выходить, чтобы даже носу наружу не показывал! Считай себя пока под арестом, а завтра я тебе лично озвучу свою волю! – и батюшка захромал в ту сторону, откуда только что явились оба его сына.
Наутро Алексей был вызван в кабинет Петра Григорьевича, где он и выслушал его отцовскую волю.
– За прилюдное оскорбление своего старшего брата, наследника семейного имущества и фамилии, опять же за подрыв авторитета господской власти в поместье старший сержант Алексей Петрович Егоров приговаривается к ежедневному несению караульной службы по всей выкладке, при мундире и при фузее, в течение полной недели, без обеда и пития воды во время стояния на посту.
Тут же батюшкой был зачитан Указ Императрицы Всероссийской Екатерины II от 1765 года о полном повиновении крестьян помещикам и разрешении отправлять их на каторгу в Сибирь, а также Указ от 1767 года «о запрете на жалобы крепостных».
– И к Троекуровым ходить я тебе запрещаю! От них вся эта либеральность идёт, от них!
Алексей всё молча выслушал, поклонился, никаких вопросов у него не было, на душе же было муторно и пусто. Желания оставаться в поместье больше у него уже не было. Нужно было как-то выбираться в этот большой и сложный мир Российской империи XVIII века и жить дальше самостоятельной взрослой жизнью.
Неделя наказания шла мучительно медленно. Крыльцо господского дома выходило на его южную сторону, и, стоя в своей форменной чёрной треуголке, в суконном кафтане, в туго стянутых под коленями тёмных штиблетах и высоких сапогах, стиснутый к тому же широким ремнём с патронными сумками и с кожаным ранцем за спиной, Лёшка потел, глядя оловянными глазами перед собою вдаль. Самое тяжёлое время у него было после обеда. Все в доме только что заканчивали трапезу, и запахи долетали с кухни и гостиной просто одуряющие. А солнце, не по-апрельски жаркое, стояло как раз в самом зените, выгоняя обильный пот из под головного убора. И стоять ему так было ещё долгие четыре послеобеденных часа, это ещё не считая тех, что он уже отстоял утром.
– Лёшенька, я тебе мяса варёного принесла, водички вот холодненькой испей, – пыталась хоть как-то облегчить его долю добросердечная Анна. Но мальчишка продолжал стоять не шелохнувшись, стойко неся свою штрафную вахту.
Павел же издевался, как только мог, подчёркнуто громко прихлебывая из ковшика холодную воду и прохаживаясь буквально в полуметре от часового. Возмездие не заставило себя долго ждать. Как-то, слишком увлёкшись своей мелкой местью, он перешёл все дозволенные рамки и со смешком дёрнул молчаливую, как статуя, фигуру за ремень. Приклад тяжёлой фузеи неожиданно резко ударил его сверху по стопе, заставив что есть мочи заорать от боли.
– Часовой есть лицо неприкосновенное! Отойти на три шага от поста! – раздался рык часового, и в лицо отскочившего и оторопевшего от неожиданности Павла уставился трёхгранный наточенный штык.
Как ни странно, никаких неприятностей за этот инцидент не последовало, скорее всего, старый елизаветинский офицер провёл «политбеседу» со своим старшеньким, и он теперь обходил одинокую фигуру у крыльца большим полукругом.
24 апреля, в предпоследний день постовой службы, у Лёшки был день рождения. На вопрос отца, не нужно ли перенести караульный день на последующий, штрафник только молча покрутил головой в треуголке и занял свой пост.
– Упрямый, шельмец! – то ли одобряя, то ли осуждая его, ругнулся Пётр Григорьевич и зашёл в дом.
Так и прошла эта долгая и тяжёлая неделя.