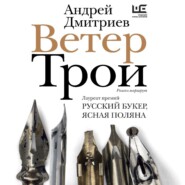По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крестьянин и тинейджер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он знает, что тебе нужна машина, не волнуйся.
– Я и не волнуюсь…. Слушай, а ты тут смотришь Интернет?
– Смотрю, а как же. – У Лики начали краснеть щеки. – И кое с кем общаюсь…
– Какие-такие тйны?
У Лики сразу покраснела шея:
– Тины – значит молоденькие. Понял?
– Да, так короче, – согласился Панюков.
– А интересно, этот тин московский, он какой?.. А то бывает: из Москвы, а морда, как у всех.
– Это увидим. – Панюков пожал плечами так, что скрипнули наплечные крылья плащ-палатки, и спросил без интереса. – Ты там все прочла?
– Я все читаю, что нам поступает, – строго ответила Лика. – Мне по работе так положено.
– Всем только не болтай, – сказал Панюков, боком выходя из конуры. – Игонин будет – я в амбулатории.
– Я позову, когда приедет… Слушай, еще!
– Что? – обернулся Панюков.
– Бекоз значит по-английски: «потому что»… А офкоз…
– Да знаю, знаю, знаю я бекоз, знаю офкоз!.. – отмахнулся Панюков и вышел вон.
«Как же, как же, некогда тебе теперь и в запятые поиграть, – все еще злился Панюков на Вову, шагая в сторону амбулатории, – можно подумать, ты когда-нибудь умел играть по-настоящему, не через пень-колоду!»
…Вова не был ленив, и не был туп, и не любил бывать один, но в школу ходил редко, предпочитая не показываться в Селихнове, где жили и шатались с выкриками или с угрюмым бормотанием по всем трем улицам села его родители и трудно было избежать случайной встречи с ними.
Обычная тогда была картина: Вова с Панюковым ранним утром бегут, гремя портфелями, на остановку и еле успевают, и вот уж Панюков вошел в автобус, а Вова – тот войти вдруг не решается, поскольку у него тянет живот. Глаза его страдают, он прижимает к животу портфель и обреченно машет Панюкову свободной рукой, ты, мол, езжай один… Под вечер Вова бодро встречает Панюкова на той же остановке, будто и не уходил с нее весь день: глаза веселые, живот здоров и даже громко разговаривает в ожидании ужина; они идут в дом к Панюкову и там играют в запятые.
Игра произошла от самого обычного диктанта. Чтобы хоть как-то приохотить Вову к правописанию, мать Панюкова каждый вечер дважды переписывала – в специальную тетрадку Вовы и в такую же тетрадку сына – какую-нибудь свежую газетную статью, нарочно опуская запятые, и Вова с Панюковым должны были расставить запятые заново, кто правильнее и кто быстрее, каждый в своей тетрадке. Другие знаки препинания мать оставляла все как есть, как Вове вовсе непосильные: включи она все эти точки с запятыми и двоеточия с тире в игру, он был бы обречен на постоянный проигрыш и, значит, на потерю интереса. И в запятые он выигрывал нечасто, но все ж, бывало, и выигрывал, в награду получая сковородку жареной картошки поверх ужина.
Опять зуд стал жарко подниматься от подошв к коленям; пер, как опара, от которой, показалось даже, вот-вот лопнут голенища сапог; и Панюков заторопился.
Уже был виден синий дом амбулатории, наполовину скрытый кроной клена, и оставалось до него не больше тридцати шагов, как Панюков вдруг сбился с шага или его шаг сбился сам собой возле тропинки, ныряющей меж двух заборов влево, в тягучую тень яблонь, нависших над тропинкой с двух сторон и словно сросшихся над нею.
Пусть Панюков нарочно не смотрел на ту тропинку, он знал давно, что она вся в густой, как вар, тени, а понизу вся заросла с боков подорожником, лопухами и конским щавелем, и что ведет она к соседней улице. «Нет, не сегодня, ни к чему, с ногами тоже надо что-то делать», – пытался Панюков себя стреножить, но это была жалкая попытка; он огляделся, перекинул со спины на голову брезентовый капор, надвинул его на глаза и быстро шагнул в тень; дальше он шел почти на ощупь, разрывая сапогами лопухи, гремя обеими полами плащ-палатки о заборы, царапая ее брезент о колючие ветки шиповника, торчащего сквозь щели.
Вышел на свет и оказался прямо перед домом, когда-то крашенным в цыплячий бело-желтый цвет, теперь словно ощипанным.
Встал, вжавшись лопатками в забор, в тень яблонь. Улица была безлюдна; ее переходил вразвалку голубь с мохнатым задом и жирным горлом. Панюков проследил его ленивый путь с завистью: то тут, то там остановившись по пути, чтобы попить воды из лужи или порыться клювом в глине, голубь уже перешел на ту сторону улицы – а он все не решался сделать первый шаг.
Голубь с трудом взлетел и, сделав круг над улицей, опустился на крышу дома, сел на конек возле трубы – и Панюков шагнул из тени, не поднимая головы, не глядя по сторонам.
Он сам не знал, зачем он переходит улицу и что он совершит, когда перейдет ее: начнет туда-сюда бродить под окнами, изображая одинокого прохожего, или рискнет встать на завалинку и, ухватившись за края ставен, подтянется, заглянет внутрь, и, может, повезет ему увидеть Санюшку, а после быстро спрыгнуть вниз с завалинки и, головы не поднимая, убежать… Или затем он переходит улицу, чтобы, стыдясь себя до обморока, постучать в дверь, войти, услышать наглый хохоток и следом наглый говорок ветеринара: «Хо, кто приперся. Сань, глянь, ха-ха-ха, твой хахалек приперся. Что, скучно в Сагачах, начал бухать, как люди, а одному не лезет в горло? С собой принес?» – что-то такое точно скажет ему ветеринар; придется, головы не поднимая, отвечать, что не принес он ничего, как не бухал он, так и не бухает, – потом придумывать придется, зачем пришел; уж лучше, в самом деле, просто встать на завалинку и быстро подтянуться, и мельком заглянуть в окно…
Уставясь взглядом в глину, Панюков едва перешел улицу до середины, как вдруг услышал быстрое нытье и скрип дверных петель; открывшись настежь, дверь ударила о стену, и Панюков, не поднимая головы, круто свернул влево, побрел прочь, нарочно замедляя шаг, словно какой-нибудь случайный и никуда не торопящийся прохожий. Он брел тихонько, покуда не услышал за спиной увесистый прыжок с крыльца – потом и легкий стук калитки.
Открытая калитка в огород, пошатываясь, легко поскрипывала. Глядя на нее через плечо, Панюков ждал и гадал, кто из огорода выйдет, – не признаваясь сам себе в надежде увидеть Саню… Вот из калитки выкатилось колесо велосипеда – и вел его ветеринар, в футболке, в спортивных шароварах, в резиновых галошах на босую ногу. Закрыл ногой калитку, вывернул руль, с тяжелого короткого разбега сел в седло и покатил по улице от Панюкова прочь. Панюков глядел ветеринару вслед, пока тот не скрылся за водонапорной башней. Нетерпеливо постоял, затем почти бегом направился к крыльцу.
Засов был отодвинут, висевший на его петле замок – расстегнут. Панюков потянул засов на себя и шагнул через порог. В сенях его накрыл мрак, обдали запахи тряпья, сырой и кислый дух лежалого картофеля, запахи пыли и керосиновой копоти. Позвал негромко:
– Санюшка…
Ответа не было.
Панюков прислушался во мраке. Какой-то еле слышный говор, походивший на сонный летний разговор голубей, чуть доносился из-за двери. Панюков громче позвал:
– Саня! Александра Ефимовна!..
Опять никто не отозвался из-за двери, и не смолкал за дверью тихий голубиный разговор. Панюков осторожно толкнул мягкую, обитую рваным дерматином с ватой дверь и вошел.
Увидел валенки, валявшиеся возле печи. Из-за угла печи выглядывал кухонный стол с изрезанной клеенкой и немытыми тарелками; оса гуляла по открытой банке с темным, густым вареньем; на табуретке стоял таз с мыльной водой, над тазом капал рукомойник. Из-за другого угла печи торчала высокая железная кровать со взбитым к прутьям спинки ватным одеялом; угол измятой простыни свисал до пола, полускрывая ряд пустых бутылок и банок с крышками, набитых огурцами в мутном рассоле и, вроде, кабачками с патиссонами. И бормотало радио в углу на телевизоре: звук его был так слаб, что невозможно было разобрать, о чем оно бормочет. Душно было в избе, смрадно, а Сани не было.
Грохнула дверь, и раздались шаги в сенях. Панюков не успел растеряться, лишь обернулся – и оказался лицом к лицу с ветеринаром. Не зная, что ему сказать, просто развел руками.
– Ты кто? – проговорил ветеринар хмуро, но без страха. – Ты капюшон-то скинь…
Панюков послушно поднял с лица капор плащ-палатки:
– Я это, кто ж еще… – ответил он не сразу. – Думал, ты дома, дверь открыта, а тут никого.
– Ну надо же, – сказал ветеринар. – Ты сколько лет не заходил?.. Год?.. После позапрошлой Пасхи тебя не было, да и тогда не заходил, мы в магазине встретились.
– Да, в магазине, точно.
– Я думал, ты подох в своих Сагачах, а потом думаю: нет, не подох, мы бы узнали.
– Узнали бы, – согласился Панюков.
– Зачем пришел? – спросил ветеринар, шагнув за печь, к кухонному столу. В руке его был полиэтиленовый пакет, в пакете звякнуло подробно, и ветеринар, не мешкая, выставил на клеенку две водочные бутылки и четыре – с пивом. Косясь на Панюкова, сказал: – Тебе не предлагаю, ты ж не бухаешь. Или забухал?
– Нет, не бухаю, – подтвердил Панюков, уже придумав, чем объяснить свое появление, и сказал: – А я – к тебе…
– Ну? – Ветеринар открыл, не жалея клеенки, бутылку с пивом об край стола и, прежде чем сделать первый глоток, на всякий случай повторил: – Тебе не предлагаю.
Панюков подождал, когда ветеринар отнимет горлышко бутылки от мокрых губ, и сказал:
– Что-то корова моя – то ли захворала, то ли пучит ее; не знаю. Ревет, когда не нужно; беспокоюсь. Ты бы приехал, посмотрел.
– Я посмотрю. Время будет, и приеду. Пока со временем – никак. Но я приеду.
– А когда? – спросил Панюков, с тоской и ненавистью воображая себе приезд ветеринара в Сагачи; еще и заплатить ему придется…