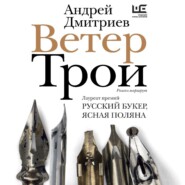По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крестьянин и тинейджер (сборник)
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вперед, – сказал Мовчун.
Ступая робко, словно по дорожке льда, неся торжественно перед собой, как Фирс несет поднос, раскрытую на середине пьесу, Шамаев поднялся на сцену.
Мовчун актеров не перебивал. Он их не наставлял еще. Он просто слушал, силясь уловить в их голосах возможности иных, пока ему не слишком ясных смыслов. Так он привык. Мысль Мовчуна, всегда дремавшая над пьесой и даже над эскизами художника к спектаклю, мгновенно просыпалась от звучания голосов актеров, и ей неважно было поначалу, куда и как актеров занесет: в лес, по дрова, иль кто во что горазд – именно там, в лесу старательно-бездумно произносимых слов, их произвольных интонаций и случайных пауз, Мовчун и находил еще никем не слышимое звучание будущего спектакля – и оно не было уже ничем похоже на те звуки, что издавали, скажем, Шабашов с Шамаевым, впервые вслух обкатывая текст, – но и без них возникнуть не могло. Как только начинали говорить, иль бормотать, или кричать актеры, как только они, будто бы оркестр перед концертом, брались настраивать свои голосовые связки, нервы, навыки – в сознании Мовчуна вдруг оживали краски на эскизах декораций и понемногу наполнялись кровью будущего зрелища ряды ремарок, реплик, построенные драматургом.
Шамаев с Шабашовым знали, что Мовчун сейчас не будет их перебивать, и, осмелев, бросали реплики друг другу, почти не слушая один другого, уверенные в том, что каждое буквально слово, как ни подай его, будет подхвачено партнером – так перебрасывают мягкими шлепками мяч курортники, встав в круг на крымском пляже: куда, не глядя, но зато лениво, стараясь не испытывать, не затруднять друг друга, стремясь к тому, чтоб мяч как можно дольше продержался в воздухе:
«…Нет, мое имя вам знать ни к чему». – «Вы прячетесь? Решили затеряться среди нас, пирующих на шумной свадьбе?» – «Нет, я не прячусь никогда. Но я работаю в одной торговой фирме, товар которой необычен». «Страшусь спросить, что за товар». – «Страшитесь, а, считай, спросили. Что ж, я отвечу. Изделия самого широкого профиля. Одни из них способны продырявить человека насквозь на расстоянии трех километров. Другие превратить в облако пара самолет, летящий в стратосфере. Иные могут в клочья разнести броню танка. Впрочем, я и танки продаю». – «И как торговлишка?» – «Да помаленьку. Цена немалая, не семечки в стакане, и покупатели наперечет, и конкуренты поджимают». – «Впервые вижу торговца смертью так близко. Можно вас потрогать?» – «Не стоит. Лучше выпьем. Здоровье молодых!» – «Здоровье молодых!.. Легко ли пить вам за здоровье, торгуя смертью?» – «Легче легкого. Вот вы заладили: торговец смертью да торговец смертью. Вы вкладываете в свои слова какой-то нехороший смысл». – «Я ничего не вкладываю, я лишь повторяю устойчивое словосочетание». – «Вы вкладываете, вкладываете, бросьте отпираться, я ясно слышу, как вы вкладываете». – «Пусть вкладываю – но, согласитесь, бизнес ваш немного инфернален». – «И аморален, вы хотите мне сказать». – «Да, аморален». «Должно быть, он не меньше аморален, чем торговля телом, родиной, людьми?» – «Не знаю, меньше или больше, но из того же ряда». – «Торговля телом отвратительна, поскольку унижает тело, верно?» – «Да, верно». – «Торговля родиной гнусна, поскольку унижает родину, святое выставляет как товар. Я верно излагаю?» – «Да». – «Нельзя, должно быть, торговать людьми, поскольку делать их товаром – значит унизить их, ведь верно?» – «Конечно, а вы разве не согласны?» – «Я-то согласен. Но при чем здесь смерть?.. О, я вам сам скажу, при чем. Вы все ее боитесь. Так боитесь, что перед нею пресмыкаетесь. Вы превратили смерть в кумира, в языческого бога, вы каждой нотой похоронного Шопена пытаетесь ее растрогать, надеетесь задобрить цветами, плачами, речами и кутьей с изюмом, мол, ты возьми, кого взяла, и съешь кутью – только ко мне не приходи. Вы и при жизни все унижены ею, а вот я – торгую. Я унижаю смерть – что в этом скверного, приятель?»
…Потом Охрипьева в роли Невесты жаловалась Массовику-затейнику на Тамаду: еще вчера он был ее любовник – и вот, посмел явиться с тостами на свадьбу. И Массовик, как Мефистофель, предлагал нахала разыграть: сказать ему, что будущий ребенок, из-за которого пришлось со свадьбой поспешить, он от него, нахала этакого, вовсе не от жениха… Невеста тут же признавалась Массовику-затейнику в обмане: она не ждет ребенка – купила справку о беременности, чтоб свадьба непременно состоялась. И Массовик незамедлительно приступал к шантажу: «Всего лишь полчаса со мной – там, в нижних этажах, есть комната на этот случай…». Невеста соглашалась – тут же становилось ясно, что Массовику не нужно ничего: он просто лишний раз хотел удостовериться в том, как ничтожен мир, как низко пали люди.
Тем временем Жених-Русецкий обхаживал влиятельного гостя, роль которого разучивал Игнатий Серебрянский:
«Я очень исполнительный, но я рассеянный. Меня нужно держать в ежовых рукавицах. Иван Степанович, коль вы желаете добра моей Наташе и нашему с ней будущему сыну – прошу вас, кроме шуток, станьте для меня ежовой рукавицей. Сожмите так, чтоб я не продохнул! И я не пискну, нет, я буду вам признателен до гроба!»
Потом был трудный, даже для обкатки, эпизод, где говорили все поочередно, хором и наперебой – когда, согласно действию, стремительная буря вдруг превратила реку в океан, весь ресторан со всеми, кто там пил и танцевал, остался под водой, и только крыша с действующими лицами пока еще держалась на поверхности:
«Ах, что это плывет?» – «Где?» – «Где?» – «Да вот, вы только поглядите, на волне!» – «Быть может, лодка?» – «Может быть, за нами?» – «Оно к нам приближается!» – «Эй, вы, на лодке! Сюда, мы здесь!» – «Нет, то не лодка». – «Боже, что это?» – «Корова?» – «Человек?» – «Похоже, детская кроватка!» – «Только не это, нет!» – «Там, кажется, ребенок». – «Да нет же, остолопы, это кукла! Вы приглядитесь, кукла! Кроватка-то, ха-ха, игрушечная. Похоже, все мы здесь лишились глазомера – как только потеряли берега из виду. Всего-то лишь игрушечная кроватка, и в ней – кукла Барби!» – «А это что?» – «Да где же?» – «Видишь?» – «Вижу!» – «Глядите все! Вон там – ныряет и всплывает на поверхность». – «Что это?» – «Что?» – «О, Господи, что это может быть?»
…Потом, немного за полночь, был перерыв, и Тиша Балтин, пользуясь молчаньем Мовчуна, взялся указывать Шабашову:
– Вы произносите слова об унижении смерти, как будто сами в них верите. Должно быть ясно: ваш Торговец не мыслитель, а игрок и циник.
– Простите, – отказался слушать Шабашов. – Не знаю, как вас нужно величать: Терентий, Тихон, Тимофей или, может быть, Галактион, я ведь и отчества не знаю, но своя правда есть у каждого…
– Зовите Тишей, как и все зовут.
– Нет, не могу. Мы не так давно знакомы.
– Так что с того? Я Тиша даже на афише! Я так решил, и это знают все. И я просил бы уважать мою свободу. Я как свободный человек вам заявляю: зовут меня Тиша Балтин и никак иначе.
– Проблема в том, – заметил Шабашов, – что это вы не уважаете мою свободу. И это ваше «Тиша» – принуждение. Да, да, не торопитесь надо мной смеяться, еще и Машеньке подмигивать. Вы принуждаете меня к фамильярности, а мне она не свойственна и, честно признаюсь, противна…
Мовчун внезапно произвел хлопок в ладоши, и препирательство оборвалось.
– Дед, отдыхайте и не заводитесь, – сказал Мовчун. – Пойдите, покурите свою «Приму». Впереди работа… Вы, Тиша, будьте Тишей, ради Бога – но, ради Бога, не встревайте. Вы лучше развлеките нас, вы расскажите, как там нынче поживают колорадские жуки…
– В Колорадо нет колорадских жуков, – обиженно ответил Тиша. – Их там и не было, и непонятно, почему их называют колорадскими.
– Кто же там есть?
– Допустим, суслики. Там есть еноты, пумы и медведи, но вот меня, к примеру, тронули суслики. Они обжили парки, все пустыри и даже насыпи железной дороги. Всюду их норы. Резвятся стаями, людей не боятся. Хотя и принимаются орать, потом свистеть при виде человека. Но и не убегают. Орут, насвистывают, но не прячутся. Их там зовут: собака прерий. Вообще-то они рыжие.
– Вот интересно, каковы они на вкус, – сказал задумчиво Шамаев, старательно разворачивая бутерброд, завернутый в фольгу. – Их, как, едят?
Мовчун расхохотался; Тиша ужаснулся:
– Да вы что! Их берегут… Если пустырь, допустим, собираются застроить – всех сусликов переселяют. Вы что смеетесь! Колоссальная проблема – как отловить всю стаю сусликов и так переселить, чтоб никого из них не повредить, не напугать… Я говорю, напрасно вы смеетесь. Тут ничего смешного. Ученые ломали голову. Изобрели такой огромный пылесос. Но не для пыли, а для сусликов. Хватит вам смеяться. Огромный и широкий мягкий шланг, рукав такой, с огромной силой, но и ласково, всасывает сусликов, и все они оказываются в мягком таком мешке или палатке. Потом их аккуратно перевозят на новую лужайку, там выпускают, и они резвятся, роют себе норы и живут, как будто ничего и не случилось… Я же сказал вам: это не смешно.
– Над автором смеяться – грех, – согласился Мовчун и поглядел на часы. – Так, час без двадцати. До часу можете резвиться, как суслики; потом продолжим.
Затылком ощущая сонный и цепкий взгляд немого охранника, он вышел на крыльцо и, обойдя вдоль стенки павильон, очутился в задней, самой дикой и ничем не освещенной части парка. Сквозь колыхающиеся на ветру прорехи в сплошном кустарнике, что обрывался под гору в укрытые ночною тьмой поля, мерцали дальние и редкие огни шоссе; за ними, там, где угадывался горизонт, перемещался с запада и на восток сноп искр из-под дуги электровоза, как если б кто-то автогеном вспарывал шов меж небом и землей. Спектакль между тем все ярче, но еще не очень четко брезжил в голове. Тон будущего зрелища, как чувствовал Мовчун, был им в самом себе расслышан верно: да, сдержанность, медлительность и никакого взрыда – внешне спокойный и ленивый, как после валиума, тон… Пока еще тревожила неясность с показом бури и большой воды. Найти предельно точный и предельно чувственный прием, который резко оттенил бы тихий тон игры актеров, прием, пусть обнаженный, но не так, чтоб зритель отвлекался на его оценку, мешала Мовчуну завистливая память. Он помнил «Бурю» Эфроса – там гром и шторм изображали десятки воздушных детских шариков: они противно и тревожно скрипели в быстрых пальцах хора и хаотично лопались в руках. Мороз по коже. Несколько секунд. Всем существом хотелось повторить, а значит, было нужно поскорей, словно от морока, избавиться от этих шариков, скрипящих и скрипящих в сердце. Еще Мовчун невольно думал о подсвеченном, шуршащем и волнующемся целлофане, которым кинорежиссер Феллини изобразил впервые море в «Казанове» и после повторил этот прием в картине «И корабль плывет». В воспоминании о целлофане было меньше зависти, но все равно то было лучшим из известных Мовчуну условных и сработанных руками из подручных средств изображений живой и дышащей воды…
Мовчун продрог. Сырые заморозки быстро выстудили в нем желание поразмышлять на воле. Он поспешил вернуться в павильон.
Решив начать с конца, он попросил Линяева выйти одному на сцену и произнести последний монолог Массовика.
– Текст выучили?
– Разумеется, – с испугом, как всегда, откликнулся Линяев. – Но можно пробегу еще глазами?
– Можно, но быстро. Маша, где ваш экземпляр?
Мовчун надеялся: без суеты перед глазами, всего с одним актером, в пустоте вокруг него и в продолженье длинного (неплохо б после сократить) монолога вдруг повезет, да и откроется, как лучше эту пустоту наполнить как передать качанье на волнах столешницы, как показать и сами волны, как подсказать, по крайней мере, направление художнику, чтобы тот знал, куда отправиться в тишайшем сумраке своей московской мастерской на поиски единственно возможных волн. Художник В. в театр не приезжал, имея сходные привычки с Мовчуном. Оба считали, что хорошо работать вместе только с теми, с кем можно думать порознь. Совместных мыслей вслух, крикливых «мозговых атак», тем паче споров, оба не терпели. «Спор – способ самоутверждения, и только, – сказал старательно Мовчун ему при первой встрече. – В спорах рождается вражда, ну, может быть, еще и власть… Истина рождается в доверии и в молчании. Поэтому, вы не сердитесь, но мы с вами ничего не будем обсуждать по ходу дела. Я ставлю вам задачу – и принимаю результат». И легендарно неулыбчивый художник В., растягивая губы до ушей, ответил: «Мы сработаемся»…
Линяев вернул завлиту Маше экземпляр и, охнув и перекрестясь, шагнул на сцену, словно в воду. Сказав:
– Я начинаю, – тут же начал:
«Где я, и почему меня тошнит? Где все?.. Нет никого, одна вода кругом и ветер. И мерзкие, как будто хохот ведьм, крики чаек… Я мерзну – это значит, что я жив. Куда меня несет?»
Мовчун увидел краем глаза: Таня Брумберг, до этих пор вязавшая крючком подобье распашонки, заснула, уронив с колен вязанье на пол; Шамаев спит, Русецкий борется со сном, массируя лицо ладонью, – нехорошо, Линяев обидчив, но, что поделать, на дворе глухая ночь. Мовчун на всякий случай поощрительно кивнул Линяеву; тот, благодарно повышая голос, продолжал:
«…Достойный эпилог карьеры шоумена. С недавних пор меня так стали называть, и я не возражал, но здесь, меж небом и водой, наедине с собой, я, как и прежде, массовик-затейник. Я славно вас развлек и, развлекая, изучил. Вот почему ни капельки не страшно. Плыву пока – но на земле меня ничто не держит. Не хочется ступать на эту твердь – не столь она тверда… Итак, друзья, последняя игра. Призов не будет, главный приз вы получили. Нуте-с, красавица—невеста, первый вопрос – к вам. На что рассчитывал недавний ваш любовник, когда напрашивался к вам на свадьбу тамадой?.. Вас, видите ли, подразнить? Ответ неверный… Кто мне ответит? Вы, жених?.. Войти в доверие к вам, потом наставить вам рога?.. Ответ неверный, хотя, не утони он вместе с вами, рога бы вам, пожалуй, и наставил… А что нам скажет наш влиятельнейший Гость?.. Подсесть при случае к вам и подольститься… Ответ неверный и смешной: похоже, бонза, вы и впрямь решили, будто свадьбу затеяли ради вашего присутствия… Вы, гость, торгующий оружием, – ваша версия?.. Да что вы говорите! По-вашему выходит, тамада был офицер спецслужб, на свадьбу напросился лишь затем, чтобы следить за вами? Вот это правильный ответ! Аплодисменты! Все аплодируем из преисподней! Браво… Вопрос второй, к невестиной подруге… »
Невестина подруга Таня Брумберг вмиг проснулась и, охнув, подобрала с полу шерсть. Мовчун невольно огляделся. Шамаев и Русецкий, как и прежде, тихо спали. Тиша Балтин уронил свою лысеющую голову на плечико завлита, и Маша, чтобы не уснуть, бездумно перелистывала пьесу. Все прочие: Охрипьева и Серебрянский, Обрадова, и Некипелова, и Иванов, и Селезнюк – успели незаметно покинуть зал; должно быть, тоже спали в креслах и на диванах полутемного фойе… Один лишь Шабашов, чтоб не дремать, прохаживался меж рядами кресел, вздев гордо голову, скрестивши руки на груди и силясь вслушиваться в монолог, который точно нужно было сократить: глумливая игра Массовика с погибшей свадьбой явно затянулась.
Мовчун, однако, не перебивал и слушал, сам прикрыв глаза, как если б задремал вслед остальным. Линяев, хоть и понимал, что режиссер не спит, все же невольно перешел на крик:
«…Я не хочу, чтоб высыхали воды и обнажили то, что спрятали, стыдясь за блядский облик мира…» – тут он осекся, сбитый с толку шумом из фойе. И все, кто спал, проснулись.
Кто-то кричал: «Оставь, кому сказал, пусти, сказал! Эй, руки убери!». Упало, грохнув, кресло, секунду было тихо, потом раздался голосок Обрадовой: «Да прекратите же, мужчины, прекратите!». Дверь распахнулась, в зал ввалился Черепахин, на полусогнутых ногах, к тому ж согнутый пополам. Охранник вел его, вывернув руку, как на дыбе, и сопел. За ними в зал вернулись Селезнюк, Охрипьева и Иванов, Обрадова и Некипелова. Вошел с ухмылкой Серебрянский.
– Пустите же его, – испуганно велел Мовчун. Охранник, чуть подумав, отпустил. – Ты, Черепахин, извини, но ему приказано никого из посторонних не пускать во время репетиции. Тем более ночью. А ты к тому ж не в форме и в пижаме.
– Я еще подумаю, – сказал с угрозой, выпрямляясь, Черепахин, – я, может, извиню, а может, нет.
Охранник, между тем, невозмутимо покинул зал.
– У нас работа, Черепахин… – с досадою начал Мовчун, но Черепахин перебил его:
– Какая, к свиньям, работа? Тут полные кранты, а ты – «работа»!
– Какие, к свиньям, могут быть кранты в два часа ночи? – не выдержал Мовчун. – Жена вернулась из Парамарибу?
– Не в два часа, а вечером еще, наверное, около девяти. Я телевизор не включал до десяти. Я новости обычно в десять вечера смотрю… Сказали: в конце первого отделения. Вот и считай: если спектакль начался в семь, то, думаю, что где-то около девяти…
– Эй, Черепахин, что тебе приснилось?
Ступая робко, словно по дорожке льда, неся торжественно перед собой, как Фирс несет поднос, раскрытую на середине пьесу, Шамаев поднялся на сцену.
Мовчун актеров не перебивал. Он их не наставлял еще. Он просто слушал, силясь уловить в их голосах возможности иных, пока ему не слишком ясных смыслов. Так он привык. Мысль Мовчуна, всегда дремавшая над пьесой и даже над эскизами художника к спектаклю, мгновенно просыпалась от звучания голосов актеров, и ей неважно было поначалу, куда и как актеров занесет: в лес, по дрова, иль кто во что горазд – именно там, в лесу старательно-бездумно произносимых слов, их произвольных интонаций и случайных пауз, Мовчун и находил еще никем не слышимое звучание будущего спектакля – и оно не было уже ничем похоже на те звуки, что издавали, скажем, Шабашов с Шамаевым, впервые вслух обкатывая текст, – но и без них возникнуть не могло. Как только начинали говорить, иль бормотать, или кричать актеры, как только они, будто бы оркестр перед концертом, брались настраивать свои голосовые связки, нервы, навыки – в сознании Мовчуна вдруг оживали краски на эскизах декораций и понемногу наполнялись кровью будущего зрелища ряды ремарок, реплик, построенные драматургом.
Шамаев с Шабашовым знали, что Мовчун сейчас не будет их перебивать, и, осмелев, бросали реплики друг другу, почти не слушая один другого, уверенные в том, что каждое буквально слово, как ни подай его, будет подхвачено партнером – так перебрасывают мягкими шлепками мяч курортники, встав в круг на крымском пляже: куда, не глядя, но зато лениво, стараясь не испытывать, не затруднять друг друга, стремясь к тому, чтоб мяч как можно дольше продержался в воздухе:
«…Нет, мое имя вам знать ни к чему». – «Вы прячетесь? Решили затеряться среди нас, пирующих на шумной свадьбе?» – «Нет, я не прячусь никогда. Но я работаю в одной торговой фирме, товар которой необычен». «Страшусь спросить, что за товар». – «Страшитесь, а, считай, спросили. Что ж, я отвечу. Изделия самого широкого профиля. Одни из них способны продырявить человека насквозь на расстоянии трех километров. Другие превратить в облако пара самолет, летящий в стратосфере. Иные могут в клочья разнести броню танка. Впрочем, я и танки продаю». – «И как торговлишка?» – «Да помаленьку. Цена немалая, не семечки в стакане, и покупатели наперечет, и конкуренты поджимают». – «Впервые вижу торговца смертью так близко. Можно вас потрогать?» – «Не стоит. Лучше выпьем. Здоровье молодых!» – «Здоровье молодых!.. Легко ли пить вам за здоровье, торгуя смертью?» – «Легче легкого. Вот вы заладили: торговец смертью да торговец смертью. Вы вкладываете в свои слова какой-то нехороший смысл». – «Я ничего не вкладываю, я лишь повторяю устойчивое словосочетание». – «Вы вкладываете, вкладываете, бросьте отпираться, я ясно слышу, как вы вкладываете». – «Пусть вкладываю – но, согласитесь, бизнес ваш немного инфернален». – «И аморален, вы хотите мне сказать». – «Да, аморален». «Должно быть, он не меньше аморален, чем торговля телом, родиной, людьми?» – «Не знаю, меньше или больше, но из того же ряда». – «Торговля телом отвратительна, поскольку унижает тело, верно?» – «Да, верно». – «Торговля родиной гнусна, поскольку унижает родину, святое выставляет как товар. Я верно излагаю?» – «Да». – «Нельзя, должно быть, торговать людьми, поскольку делать их товаром – значит унизить их, ведь верно?» – «Конечно, а вы разве не согласны?» – «Я-то согласен. Но при чем здесь смерть?.. О, я вам сам скажу, при чем. Вы все ее боитесь. Так боитесь, что перед нею пресмыкаетесь. Вы превратили смерть в кумира, в языческого бога, вы каждой нотой похоронного Шопена пытаетесь ее растрогать, надеетесь задобрить цветами, плачами, речами и кутьей с изюмом, мол, ты возьми, кого взяла, и съешь кутью – только ко мне не приходи. Вы и при жизни все унижены ею, а вот я – торгую. Я унижаю смерть – что в этом скверного, приятель?»
…Потом Охрипьева в роли Невесты жаловалась Массовику-затейнику на Тамаду: еще вчера он был ее любовник – и вот, посмел явиться с тостами на свадьбу. И Массовик, как Мефистофель, предлагал нахала разыграть: сказать ему, что будущий ребенок, из-за которого пришлось со свадьбой поспешить, он от него, нахала этакого, вовсе не от жениха… Невеста тут же признавалась Массовику-затейнику в обмане: она не ждет ребенка – купила справку о беременности, чтоб свадьба непременно состоялась. И Массовик незамедлительно приступал к шантажу: «Всего лишь полчаса со мной – там, в нижних этажах, есть комната на этот случай…». Невеста соглашалась – тут же становилось ясно, что Массовику не нужно ничего: он просто лишний раз хотел удостовериться в том, как ничтожен мир, как низко пали люди.
Тем временем Жених-Русецкий обхаживал влиятельного гостя, роль которого разучивал Игнатий Серебрянский:
«Я очень исполнительный, но я рассеянный. Меня нужно держать в ежовых рукавицах. Иван Степанович, коль вы желаете добра моей Наташе и нашему с ней будущему сыну – прошу вас, кроме шуток, станьте для меня ежовой рукавицей. Сожмите так, чтоб я не продохнул! И я не пискну, нет, я буду вам признателен до гроба!»
Потом был трудный, даже для обкатки, эпизод, где говорили все поочередно, хором и наперебой – когда, согласно действию, стремительная буря вдруг превратила реку в океан, весь ресторан со всеми, кто там пил и танцевал, остался под водой, и только крыша с действующими лицами пока еще держалась на поверхности:
«Ах, что это плывет?» – «Где?» – «Где?» – «Да вот, вы только поглядите, на волне!» – «Быть может, лодка?» – «Может быть, за нами?» – «Оно к нам приближается!» – «Эй, вы, на лодке! Сюда, мы здесь!» – «Нет, то не лодка». – «Боже, что это?» – «Корова?» – «Человек?» – «Похоже, детская кроватка!» – «Только не это, нет!» – «Там, кажется, ребенок». – «Да нет же, остолопы, это кукла! Вы приглядитесь, кукла! Кроватка-то, ха-ха, игрушечная. Похоже, все мы здесь лишились глазомера – как только потеряли берега из виду. Всего-то лишь игрушечная кроватка, и в ней – кукла Барби!» – «А это что?» – «Да где же?» – «Видишь?» – «Вижу!» – «Глядите все! Вон там – ныряет и всплывает на поверхность». – «Что это?» – «Что?» – «О, Господи, что это может быть?»
…Потом, немного за полночь, был перерыв, и Тиша Балтин, пользуясь молчаньем Мовчуна, взялся указывать Шабашову:
– Вы произносите слова об унижении смерти, как будто сами в них верите. Должно быть ясно: ваш Торговец не мыслитель, а игрок и циник.
– Простите, – отказался слушать Шабашов. – Не знаю, как вас нужно величать: Терентий, Тихон, Тимофей или, может быть, Галактион, я ведь и отчества не знаю, но своя правда есть у каждого…
– Зовите Тишей, как и все зовут.
– Нет, не могу. Мы не так давно знакомы.
– Так что с того? Я Тиша даже на афише! Я так решил, и это знают все. И я просил бы уважать мою свободу. Я как свободный человек вам заявляю: зовут меня Тиша Балтин и никак иначе.
– Проблема в том, – заметил Шабашов, – что это вы не уважаете мою свободу. И это ваше «Тиша» – принуждение. Да, да, не торопитесь надо мной смеяться, еще и Машеньке подмигивать. Вы принуждаете меня к фамильярности, а мне она не свойственна и, честно признаюсь, противна…
Мовчун внезапно произвел хлопок в ладоши, и препирательство оборвалось.
– Дед, отдыхайте и не заводитесь, – сказал Мовчун. – Пойдите, покурите свою «Приму». Впереди работа… Вы, Тиша, будьте Тишей, ради Бога – но, ради Бога, не встревайте. Вы лучше развлеките нас, вы расскажите, как там нынче поживают колорадские жуки…
– В Колорадо нет колорадских жуков, – обиженно ответил Тиша. – Их там и не было, и непонятно, почему их называют колорадскими.
– Кто же там есть?
– Допустим, суслики. Там есть еноты, пумы и медведи, но вот меня, к примеру, тронули суслики. Они обжили парки, все пустыри и даже насыпи железной дороги. Всюду их норы. Резвятся стаями, людей не боятся. Хотя и принимаются орать, потом свистеть при виде человека. Но и не убегают. Орут, насвистывают, но не прячутся. Их там зовут: собака прерий. Вообще-то они рыжие.
– Вот интересно, каковы они на вкус, – сказал задумчиво Шамаев, старательно разворачивая бутерброд, завернутый в фольгу. – Их, как, едят?
Мовчун расхохотался; Тиша ужаснулся:
– Да вы что! Их берегут… Если пустырь, допустим, собираются застроить – всех сусликов переселяют. Вы что смеетесь! Колоссальная проблема – как отловить всю стаю сусликов и так переселить, чтоб никого из них не повредить, не напугать… Я говорю, напрасно вы смеетесь. Тут ничего смешного. Ученые ломали голову. Изобрели такой огромный пылесос. Но не для пыли, а для сусликов. Хватит вам смеяться. Огромный и широкий мягкий шланг, рукав такой, с огромной силой, но и ласково, всасывает сусликов, и все они оказываются в мягком таком мешке или палатке. Потом их аккуратно перевозят на новую лужайку, там выпускают, и они резвятся, роют себе норы и живут, как будто ничего и не случилось… Я же сказал вам: это не смешно.
– Над автором смеяться – грех, – согласился Мовчун и поглядел на часы. – Так, час без двадцати. До часу можете резвиться, как суслики; потом продолжим.
Затылком ощущая сонный и цепкий взгляд немого охранника, он вышел на крыльцо и, обойдя вдоль стенки павильон, очутился в задней, самой дикой и ничем не освещенной части парка. Сквозь колыхающиеся на ветру прорехи в сплошном кустарнике, что обрывался под гору в укрытые ночною тьмой поля, мерцали дальние и редкие огни шоссе; за ними, там, где угадывался горизонт, перемещался с запада и на восток сноп искр из-под дуги электровоза, как если б кто-то автогеном вспарывал шов меж небом и землей. Спектакль между тем все ярче, но еще не очень четко брезжил в голове. Тон будущего зрелища, как чувствовал Мовчун, был им в самом себе расслышан верно: да, сдержанность, медлительность и никакого взрыда – внешне спокойный и ленивый, как после валиума, тон… Пока еще тревожила неясность с показом бури и большой воды. Найти предельно точный и предельно чувственный прием, который резко оттенил бы тихий тон игры актеров, прием, пусть обнаженный, но не так, чтоб зритель отвлекался на его оценку, мешала Мовчуну завистливая память. Он помнил «Бурю» Эфроса – там гром и шторм изображали десятки воздушных детских шариков: они противно и тревожно скрипели в быстрых пальцах хора и хаотично лопались в руках. Мороз по коже. Несколько секунд. Всем существом хотелось повторить, а значит, было нужно поскорей, словно от морока, избавиться от этих шариков, скрипящих и скрипящих в сердце. Еще Мовчун невольно думал о подсвеченном, шуршащем и волнующемся целлофане, которым кинорежиссер Феллини изобразил впервые море в «Казанове» и после повторил этот прием в картине «И корабль плывет». В воспоминании о целлофане было меньше зависти, но все равно то было лучшим из известных Мовчуну условных и сработанных руками из подручных средств изображений живой и дышащей воды…
Мовчун продрог. Сырые заморозки быстро выстудили в нем желание поразмышлять на воле. Он поспешил вернуться в павильон.
Решив начать с конца, он попросил Линяева выйти одному на сцену и произнести последний монолог Массовика.
– Текст выучили?
– Разумеется, – с испугом, как всегда, откликнулся Линяев. – Но можно пробегу еще глазами?
– Можно, но быстро. Маша, где ваш экземпляр?
Мовчун надеялся: без суеты перед глазами, всего с одним актером, в пустоте вокруг него и в продолженье длинного (неплохо б после сократить) монолога вдруг повезет, да и откроется, как лучше эту пустоту наполнить как передать качанье на волнах столешницы, как показать и сами волны, как подсказать, по крайней мере, направление художнику, чтобы тот знал, куда отправиться в тишайшем сумраке своей московской мастерской на поиски единственно возможных волн. Художник В. в театр не приезжал, имея сходные привычки с Мовчуном. Оба считали, что хорошо работать вместе только с теми, с кем можно думать порознь. Совместных мыслей вслух, крикливых «мозговых атак», тем паче споров, оба не терпели. «Спор – способ самоутверждения, и только, – сказал старательно Мовчун ему при первой встрече. – В спорах рождается вражда, ну, может быть, еще и власть… Истина рождается в доверии и в молчании. Поэтому, вы не сердитесь, но мы с вами ничего не будем обсуждать по ходу дела. Я ставлю вам задачу – и принимаю результат». И легендарно неулыбчивый художник В., растягивая губы до ушей, ответил: «Мы сработаемся»…
Линяев вернул завлиту Маше экземпляр и, охнув и перекрестясь, шагнул на сцену, словно в воду. Сказав:
– Я начинаю, – тут же начал:
«Где я, и почему меня тошнит? Где все?.. Нет никого, одна вода кругом и ветер. И мерзкие, как будто хохот ведьм, крики чаек… Я мерзну – это значит, что я жив. Куда меня несет?»
Мовчун увидел краем глаза: Таня Брумберг, до этих пор вязавшая крючком подобье распашонки, заснула, уронив с колен вязанье на пол; Шамаев спит, Русецкий борется со сном, массируя лицо ладонью, – нехорошо, Линяев обидчив, но, что поделать, на дворе глухая ночь. Мовчун на всякий случай поощрительно кивнул Линяеву; тот, благодарно повышая голос, продолжал:
«…Достойный эпилог карьеры шоумена. С недавних пор меня так стали называть, и я не возражал, но здесь, меж небом и водой, наедине с собой, я, как и прежде, массовик-затейник. Я славно вас развлек и, развлекая, изучил. Вот почему ни капельки не страшно. Плыву пока – но на земле меня ничто не держит. Не хочется ступать на эту твердь – не столь она тверда… Итак, друзья, последняя игра. Призов не будет, главный приз вы получили. Нуте-с, красавица—невеста, первый вопрос – к вам. На что рассчитывал недавний ваш любовник, когда напрашивался к вам на свадьбу тамадой?.. Вас, видите ли, подразнить? Ответ неверный… Кто мне ответит? Вы, жених?.. Войти в доверие к вам, потом наставить вам рога?.. Ответ неверный, хотя, не утони он вместе с вами, рога бы вам, пожалуй, и наставил… А что нам скажет наш влиятельнейший Гость?.. Подсесть при случае к вам и подольститься… Ответ неверный и смешной: похоже, бонза, вы и впрямь решили, будто свадьбу затеяли ради вашего присутствия… Вы, гость, торгующий оружием, – ваша версия?.. Да что вы говорите! По-вашему выходит, тамада был офицер спецслужб, на свадьбу напросился лишь затем, чтобы следить за вами? Вот это правильный ответ! Аплодисменты! Все аплодируем из преисподней! Браво… Вопрос второй, к невестиной подруге… »
Невестина подруга Таня Брумберг вмиг проснулась и, охнув, подобрала с полу шерсть. Мовчун невольно огляделся. Шамаев и Русецкий, как и прежде, тихо спали. Тиша Балтин уронил свою лысеющую голову на плечико завлита, и Маша, чтобы не уснуть, бездумно перелистывала пьесу. Все прочие: Охрипьева и Серебрянский, Обрадова, и Некипелова, и Иванов, и Селезнюк – успели незаметно покинуть зал; должно быть, тоже спали в креслах и на диванах полутемного фойе… Один лишь Шабашов, чтоб не дремать, прохаживался меж рядами кресел, вздев гордо голову, скрестивши руки на груди и силясь вслушиваться в монолог, который точно нужно было сократить: глумливая игра Массовика с погибшей свадьбой явно затянулась.
Мовчун, однако, не перебивал и слушал, сам прикрыв глаза, как если б задремал вслед остальным. Линяев, хоть и понимал, что режиссер не спит, все же невольно перешел на крик:
«…Я не хочу, чтоб высыхали воды и обнажили то, что спрятали, стыдясь за блядский облик мира…» – тут он осекся, сбитый с толку шумом из фойе. И все, кто спал, проснулись.
Кто-то кричал: «Оставь, кому сказал, пусти, сказал! Эй, руки убери!». Упало, грохнув, кресло, секунду было тихо, потом раздался голосок Обрадовой: «Да прекратите же, мужчины, прекратите!». Дверь распахнулась, в зал ввалился Черепахин, на полусогнутых ногах, к тому ж согнутый пополам. Охранник вел его, вывернув руку, как на дыбе, и сопел. За ними в зал вернулись Селезнюк, Охрипьева и Иванов, Обрадова и Некипелова. Вошел с ухмылкой Серебрянский.
– Пустите же его, – испуганно велел Мовчун. Охранник, чуть подумав, отпустил. – Ты, Черепахин, извини, но ему приказано никого из посторонних не пускать во время репетиции. Тем более ночью. А ты к тому ж не в форме и в пижаме.
– Я еще подумаю, – сказал с угрозой, выпрямляясь, Черепахин, – я, может, извиню, а может, нет.
Охранник, между тем, невозмутимо покинул зал.
– У нас работа, Черепахин… – с досадою начал Мовчун, но Черепахин перебил его:
– Какая, к свиньям, работа? Тут полные кранты, а ты – «работа»!
– Какие, к свиньям, могут быть кранты в два часа ночи? – не выдержал Мовчун. – Жена вернулась из Парамарибу?
– Не в два часа, а вечером еще, наверное, около девяти. Я телевизор не включал до десяти. Я новости обычно в десять вечера смотрю… Сказали: в конце первого отделения. Вот и считай: если спектакль начался в семь, то, думаю, что где-то около девяти…
– Эй, Черепахин, что тебе приснилось?