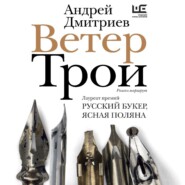По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крестьянин и тинейджер (сборник)
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крестьянин и тинейджер (сборник)
Андрей Викторович Дмитриев
Собрание произведений #2
«Свод сочинений Андрея Дмитриева – многоплановое и стройное, внутренне единое повествование о том, что происходило с нами и нашей страной как в последние тридцать лет, так и раньше – от революции до позднесоветской эры, почитавшей себя вечной. Разноликие герои Дмитриева – интеллектуалы и работяги, столичные жители и провинциалы, старики и неоперившиеся юнцы – ищут, находят, теряют и снова ищут главную жизненную ценность – свободу, без которой всякое чувство оборачивается унылым муляжом. Проза Дмитриева свободна, а потому его рассказы, повести, романы неоспоримо доказывают: сегодня, как и прежде, реальны и чувство принадлежности истории (ответственности за нее), и поэзия, и любовь» (Андрей Немзер). Во вторую книгу вошли повесть «Призрак театра», романы «Бухта радости» и «Крестьянин и тинейджер». Решением жюри конкурса «Русский Букер» «Крестьянин и тинейджер» признан лучшим русским романом за 2011 и 2012 годы. Роман удостоен также премии «Ясная Поляна» и вошел в короткий список премии «Большая книга» (2012).
Андрей Дмитриев
Крестьянин и тинейджер
Призрак театра
Повесть
По вечерам нам нужно жить и радоваться; ночами нужно спать. Вечерняя репетиция, переходящая в ночную, это измывательство, измор, но я вынужден, и выбора у меня нет. Мовчун сказал, что я на договоре, но договор со мной пока не будет им подписан. Пока я должен буду год пахать в неопределенности, на голых нервах, совсем не пить, «а там посмотрим». То есть не я посмотрю, а он посмотрит, но это мы еще посмотрим, кому смотреть.
Любой режиссер – бонапарт, сказал мне один сценарист. Так это кинорежиссер. Сидит себе на барабане: «Массовка пошла! Танки пошли! Кавалерия пошла! Самолеты пошли! Батарея – огонь! Из всех стволов – пли! Пара на заднем плане – целуется!». Театральный режиссер, по моим многолетним наблюдениям, не бонапарт, а метрдотель (Мовчун говорит «метроотель», я его раз поправил – теперь вот год не пить и без контракта): «Как входишь?.. Как выходишь?.. – и все своим унылым, насморочным голосом. – Как держишь ногу?.. Как держишь паузу?.. Как держишь поднос? Разве Фирс, профессионал, – он так держит поднос?». Не люблю я Чехова. Не самого Чехова, но морду, какую надо надевать, произнося на людях слово «Чехов».
Ну, Фирс. Играл я Фирса и поднос носил. А много слов у Фирса? Много ли смысла в его подносе? Много ли смысла в лакейских его словах? С какой, однако, мордой давал я интервью: как я играл этого Фирса; как его на даче заперли и там забыли! Правду сказать, теперешняя роль – она ничего себе, ничего… Почти ничего, но уже и кое-что: две сценки, во второй – целый монолог; и так здорово написано, что даже учить не пришлось, все запомнилось само, с первой читки, как детский стих. Автор многообещающий. Пусть и не мне обещает, пусть его пьесы, когда ему фишка выпадет, Машков с Безруковым будут играть, и пусть в наш павильон он тогда уже и не сунется, и разве что по доброй памяти не поторопится плюнуть на нас со своей высоты, но мне приятно быть в числе свидетелей и соучастников его дебюта. Роль у меня – Торговец оружием, причем не араб и не кавказец, а наш, родной, и в этом соль. Демоническая личность, что-то вкрадчивое, и не злодей: у него тоже есть своя правда. Одного боюсь: Мовчун велит комиковать. Он любит, когда второй план комикует. Смешное помнится на расстоянье, так он шутит. То есть вторые роли зрителю запомнить легче, когда они смешны, так он считает. А я считаю, ему бы в цирке работать. Он путает второй план с интермедией, вторые роли – со вставными номерами. Он попросту не знает, что делать со вторым планом, и никогда не знал. Еще в училище, мне говорили, ему об этом говорили, а он – что? Морду наденет, вскинет ее: «Мне нравится!», что означает: «Все – дураки, а я гений»…
Надо отвлечься. Нельзя мне перед репетицией думать о репетиции. Вот не спросил у Мовчуна, начнет ли он платить за репетиции. Я дожил: я и об этом не спросил; такая в жизни полоса. Возьмите у меня интервью и задайте мне, немолодому уже человеку, всего один вопрос: почему наш актер пьет и часто спивается? И я отвечу, как смогу, коротко.
Итак, вопрос: почему мы, актеры советского, теперь российского театра и кино, многие спились? Вот мой ответ: потому что нельзя нам было безнаказанно и без последствий для душевного здоровья из года в год играть идиотов: «Товарищ Сергеев! Товарищ Журбин! Как у тебя со встречным планом? Неужто некого бросить в прорыв? Как на это посмотрят товарищи по ячейке? Как на бюро райкома поглядят на твои аморальные отношения с товарищем Фиалковой на общем фоне недовыполнения и на глазах у коллектива? И ты – не куксись, не скрывай! Тебя девчата видели с ней в плавнях! Верно, девчата? (Те, мелодично: “Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!”)». Теперь задайте мне второй вопрос: почему мы, уж очень многие актеры советского театра и кино, так славно начинали – и так конфузливо и суетливо, словно стыдясь себя, заканчиваем?.. По той же самой причине, таков мой честный ответ. Нельзя годами играть идиотов, придуманных идиотами. Профессия этого не прощает: ей вдруг делается противно, и она уходит. «Неужели не удержите переходящее? То-то, товарищ! Взял знамя – держи его! Крепче держи, не отдавай никому! Ты только представь, товарищ, какая замечательная жизнь скоро наступит! Ты же мечтатель! И вы, девчата, вы представьте (те, колокольчиком певучим: “Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!”)! Представили? То-то, гляжу, у вас слезинка! И лучики в глазах! А вот смешинка! Вот и лукавинка, ты глянь, дорогой ты мой человек! Спасибо тебе, товарищ! Дай пять! Удачи, товарищ! И помни, товарищ: с размаху, молотом – и по кувалде! И по кувалде! И по кувалде!».
Кому-то повезло, попал к умелому метрдотелю, культурным бонапартом был подхвачен, и – роли: тот же Чехов, тот же Горький, да тот же Зорин и Вампилов; вот это роли, это рост; а если кто и пил, как все, то, ясное дело, бросил… Везло ли мне? Мне шестьдесят шесть лет; играл недавно Фирса, играл Молчалина однажды, играл в «Транзите» Караваева, играл другие роли на театре, играл в кино: все больше комсомольцев, коммунистов, бывало, что и мудрых следователей («Ну что ж, беги, Хрипун, беги, коли сбежал, но помни: от меня убежать можно, от себя – никогда!») и получил заслуженный итог: на облузганной подсолнухом электричке еду в Саванеевку, во временное место дислокации театра «Гистрион», на вечерне-ночную репетицию, за которую мне вряд ли кто заплатит. Мовчун говорит: ему Лужков обещал помещение внутри Бульварного кольца. Ну, не в смысле Лужков, – но один такой человек, который к Лужкову дверь открывает ногой. Что ж, исполать, а то мне каждый день на электричке – не по годам, да и не по таланту.
Талант, какой-никакой, есть. Не везло мне, не скрываю, но то издержки профессии, в ней не везет большинству. Шестьдесят шесть – не старость, еще и силы могут расцвести, и фишка выпасть, я знаю много таких хороших примеров. Но – не верю! Почему-то я не верю, что Лужков даст помещение. «Держи карман, не Мейерхольд, на всех не напасешься», – вот что нам скажет мэр и будет прав. Даже если мой Торговец оружием станет событием – ну для кого? Даже если Мовчун вдруг мысленно увидит меня в хороших будущих ролях и даже если, собираясь ставить Лира, он вдруг возьмет меня на Лира, и я, даст Бог, не оплошаю – кто мне в ладоши будет хлопать? Столичный зритель в павильон не ходит, театровед на электричке в глушь не ездит; возможно, Мовчуну удастся заманить к нам на премьеру телевидение. Не то чтоб, в смысле, Телевидение, – но, да, один такой телеканал…
…Узоры-2 и дальше Саванеевка: там выхожу, и радость чувствую, и предвкушаю, и было так со мной всегда перед началом репетиции: всегда и радость чувствую, и предвкушаю – хотя, казалось бы, ну что тут нынче предвкушать? Приду я в павильон, топить еще не начали, Мовчун не скажет мне: «Дыхни», но ведь принюхается! Он виду не подаст, что он принюхался, но я не лох, я ж вижу: он принюхивается! Я, ясно, сразу злюсь, в роль с ходу не войду, в образ никак не попадаю, ну а Мовчун… Мовчун, пусть молча, а кричит!!!
Нельзя нервировать себя перед репетицией. Нельзя мне перед репетицией о ней думать. Иначе ты не донесешь себя, все расплескаешь и только зря всего себя измучишь.
В окне темнеет; в октябре темнеет быстро; вот саванеевские гаражи: длиннющая, на две минуты хода электрички, сплошная линия гаражных серых будок из силиконового кирпича и надпись бурой краской по всей линии, чтоб пассажиры электричек, все те, что с левой от столицы стороны, могли читать ее подольше – огромными, под крышу гаражей, по букве на гараж, и аккуратнейшими, знать, по трафарету сделанными буквами:
«СОВЕТНИК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ КРАСНОСМОРОДЧЕНКО В. И. – ПЕДРИЛЛА, ВЗЯТОЧНИК И МРАЗЬ».
На слове «МРАЗЬ» должны включиться тормоза, и точно – тормозим, вагон подергивает, стук на стыках реже, последний перед остановкой жалостливый стон колес – все, братцы, встали. Вставай, душа моя (так я себя зову не вслух), спеши на выход; выйдешь – можешь не спешить.
Я не опаздываю никогда, я никогда не тороплюсь, я на вокзал, на встречу, на прием, на Спартачок приду за час, а на спектакль – за два. Сегодня нам назначено на семь, и на моих – шесть с малыми минутами, на станционных, что над кассами, шесть двадцать – эти врут. Но даже если бы не врали: идти неспешным шагом через лес – минут пятнадцать. Кто не торопится, тот успевает, сказал мне один сценарист. Он, видит Бог, опаздывает всюду, но преуспел и впрямь, чего я о себе сказать бы рад, да не могу. Я как-то указал ему на это. В ответ он вспомнил чью-то мудрость: «Когда ты видишь: опоздал, – полезно замедлить шаг». Вот-вот, ответил я ему, я замедляю шаг, но, как ни медлю, удача успевает увильнуть. Неспешным шагом прихожу за час и – поздно: след ее простыл, разве махнет хвостом издалека, мол, «я другому отдана». Ошибка найдена, обрадовался он. Секрет не в том, чтобы неспешно приходить за час, а в том секрет, чтоб не бояться опоздать. Да, да, выходишь не за час, а за минуту; и, зная точно: опоздал, – не паникуешь, а, нарочно замедляя шаг, идешь куда и шел, допустим, на вокзал… Да, поезд твой уже ушел, зато удача, очень может быть, тебя нарочно поджидает на пустом и одному тебе оставленном перроне… Тут он подумал, отпил и напомнил с грустью: «Со мной всегда так и бывало». Потом еще подумал, пригубил еще чуть-чуть и мне в лицо сказал: «Быть может, дело в том, кого, однако, ждут. Иного будут ждать и час, и два, и три, и сколько он ни пожелает, другого ждать не станут ни за что, даже обрадуются». Намек я понял, пусть намек и был абстрактный. На этом мы рассорились; который год руки не подаю. А ведь напрасно, прав был сценарист. Меня давно, как я бы ни боялся опоздать, никто не ждет, да и Алина Николаевна, при всей ее барсучьей ревности, не ждет: за стол садится без меня; я точно знаю: утром приплетусь, измученный, к нам на Азовскую – и что услышу с кухни? «Я уж позавтракала, есть хочешь – разогрей…»
«Никто не ждет» – зачем я лгу своей надежде? Затем и лгу, чтобы она, моя надежда, не слишком рано распускала хвост. Я лгу себе, чтобы не сглазить. Вчера, как только Фимочка меня спросила после репетиции, буду ли точно завтра (то есть нынче), а я ответил: «Точно буду»; когда она в ответ сказала: «Буду ждать вас», – я, чтобы не сглазить смысл, услышанный вдруг мной в ее ответе, и бровью не повел, я даже самому себе старался не признаться, что я услышал, я изо всех сил внушал себе: она волнуется по долгу службы, придут ли все на вечер-ночь. По долгу службы, только и всего, но следует признать: пока я тратил силы на то, чтоб не поверить и чтобы, стало быть, не сглазить – во мне надежда пела, токовала, как тетерка, и до сих пор еще, как я бы на нее сейчас ни цыкал, чтоб не сглазила, – токует, и поет, и распускает перья…
Хорошо не спешить. Курнуть на лавочке дешевых сигарет, каких не пробовали те, что выстроили там, на поле за путями, коттеджи с башнями и флюгерами, в пять этажей, с колоннами; венеры и давиды голые из мрамора на крышах, в нишах, на террасах, и окна не горят нигде. Ужасный стиль, ужасные сердца. Как можно строить мавританский замок средь подмосковных нищих дач? И чтоб давиды и венеры впустую пялились на елки и осины! Как им самим, тем, что не пробовали «Приму», не жутко жить в нагромождении замков и дворцов из всех эпох и стран, из подростковых снов, диснеевских мультяшек, из сладко-вычурных фантазий, в шанхаях бунгало, шале, палаццо и кремлей, лепящихся один к другому теснее, чем на пне опята? Вот наворочали: кто в лес, кто по дрова, окно в окно, забор к забору, не продохнуть! Такое видел я на кладбище в предместье Барселоны. Что ж, там, на кладбище, уместно: те надгробные дворцы – для мертвых, для того, чтобы живые удивлялись тем дворцам со стороны; и я дивился, спору нет, но чтобы внутрь меня или других тянуло – брр, никто пока не рвется…
Хотя, возможно, многие из них и пробовали «Приму», те, кто по зонам нагулял авторитет – прежде чем выйти и наворовать на мавританский замок. И я на них не злюсь, я перед ними – пас, поскольку не сидел и в этой роли не могу себя представить, так это страшно.
Пожалуй, с разговора о дешевом табаке завяжется наш с Фимочкой желанный разговор. «Зачем вы курите такую дрянь перед работой, Шабашов? Вы дышите своей махрою всем в лицо на сцене! Партнеров это беспокоит». Не самое приятное начало, но, препираясь с нею, можно длить и длить общение, а после уступить, и извиниться от души, и улыбнуться вдруг тепло, и перейти на что-нибудь хорошее, сказать приятное и заинтриговать, и, прежде чем Мовчун всех призовет на сцену, закрепить сложное впечатление и исподволь внушить, что продолженье разговора неизбежно.
Фимочка – наша заведующая труппой; она же и помреж; она, по сути, и директор, хотя директором себя считает, да им и числится формально, режиссер Мовчун. Ей двадцать пять, на сорок лет меня моложе. Бывал я хват, а с ней робею, я даже комплимент боюсь сказать – а ну как он получится развязный?.. Она собою сильно хороша и начинала, что естественно, актрисой, но скоро стало ясно всем: живые люди ей намного интересней, чем придуманные, организаторский талант у ней повыше, чем актерский, ум у нее не артистически-мечтательный, а деловой и воля мощная – ну как ей подчиняться прихотям метрдотеля-режиссера! Ей на роду написано – не исполнять, а управлять. Я верю: не пройдет и двух сезонов, как она примется рулить не «Гистрионом» Мовчуна, а чем-нибудь и впрямь внутри Бульварного кольца! Или заделается антрепренером, или создаст свое агентство, свой фестиваль наладит, но театру не изменит никогда! Я слышал от Линяева, ну, от того, что жалуется ей на мой табак: ей предлагали, и не раз, уйти во МХАТ и чуть ли не сменить директора «Ленкома», и непонятно, отчего она ответила отказом, предпочитая прозябать в мовчунском павильоне… Это Линяеву, болвану, непонятно! Я ж не дурак, я понимаю и отдаю ей должное. Она не может кинуть нас, пока не выберемся мы из павильона, пока мы не расправим плечи! Она не может бросить дело, за которое взялась, на полдороге. Она физически проигрывать не может – вот оттого ее и требуют во МХАТ!..
Уйдет она – и я уйду. И, ежели права моя надежда: вчерашние слова «Я буду ждать вас» – не по долгу службы, но из сердца, я буду с ней повсюду: да хоть сторожем во МХАТе, хоть буфетчиком в «Ленкоме», хоть псом на коврике в дверях, а если сглазила надежда, обозналась, – уйду вообще, уйду куда глаза глядят, но я с Алиной Николавной не останусь…
Стоп, стоп, курнем вторую сигаретку; зачем я так с собой? «Буфетчик», «сторож», «пес» – согласен, что на это я согласен, но если б я годился только в сторожа и если б выглядел, как пес, моя надежда перья б не пушила! Талант, я повторяю, есть. Осанка – не сутулая, и голос бархатный по тембру, и не дурак, и вот, совсем не пью (хотя б за то спасибо Мовчуну), и внешность – с сединой, со сдержанным намеком. Когда был молодым, в училище и после, – я мордой и повадкой кругленький был, сладенький, при росте в метр девяносто; девицы млели; вспоминать противно. С годами внешность возмужала и обрела черты породы, благородства, могу играть хоть лордов, хоть дворецких. Меня любили раньше дурочки, простушки да резвушки – теперь льнут женщины со вкусом и умом. У Фимочки – и вкус, и ум, но слишком, слишком молода.
Ну почему она не старше? Ну почему не сорок ей, не пятьдесят? Ну почему не семьдесят? Я ведь не то чтобы молоденькой увлекся – я человека полюбил! (Я будто слышу: «Как же, человека! А грудь у человека? Неужто не хотелось тихо сзади подойти и ласково обнять ее за грудь?». Что спорить с пошляками! Я, чтоб не спорить, и не отрицаю ничего. Я б обнял.) И мне неважно, сколько ей сейчас. А ей как раз, быть может, это важно. Быть может, для нее я – и старик… Я не имею права медлить с главным разговором. Пока никто за ней не приезжает на машине, никто не присылает ей цветов. Пока она ни с кем не точит ласковые лясы по своему мобильнику, прикрыв его ладошкой, но только – громко, четко! – о делах. Пока у нее нет никого, и это точно, иначе бы все знали. Но страшно, страшно хороша! Однажды этакий такой какой-нибудь подрулит к павильону, из «мерседеса» выползет, выползень, с букетом орхидей – и лучше бы тогда мне сразу сдохнуть!..
Там, на испанском кладбище, зажглось одно окно. Душа, молчи, умолкни, не зуди! Шесть сорок три минуты – на моих часах и семь с минутами на тех, что врут над головой; пора.
То не душа, как он подумал было, смолкла – то шум в душе умолк и зуд утих. Душа, наоборот, заговорила, но о своем – и на своем бессловном и безмолвном языке.
А что есть разговор души, когда она не трудится? Или когда не рвется ввысь, домой?
Подробная приязнь к земной юдоли, только и всего.
О чем она приязненно бормочет, пока влюбленный Шабашов, не торопясь, шагает по тропинке через лес?
О том, что видит, и о том, что одобряет.
Перевожу на шум; за точность не ручаюсь: «Вот мелкий лес в вечерней и прозрачной тьме. Тропинка всхлипывает и скрипит под защищенной кожею быка стопой моей влюбленной оболочки, что неопасно зябнет в оболочках из замысловато пестрой, дивно прочной нити хлопка, из толстой, теплой нитки шерстяной, из нити той, что пряли в преисподней, и прозванной чудесно синтепон, обвернутой другой, суровой нитью из тех же огнедышащих миров, куда мне для моей же пользы и спасенья ход заказан, и я могу лишь восхищаться именем той нити: полиэстр, ее умением отталкивать потоки вод, что то и дело льются с тех высот, где ждет меня мой милый дом. Вот дерево. Ворона грузно перепрыгнула с сосны на гнутую березу; та на мгновение еще согбенней стала, но через миг, упрямо фыркнув прутьями с остатками листвы, вновь попыталась стать прямой. Вот свет луны, пока еще неяркой и прозрачной. Вот вспыхивает лужа. Вот в луже, словно звезды Млечного Пути, дрожат, мерцают и плывут листья берез, осин, и лип, и старых вязов. Кусты качаются и трутся о стволы. Стволы шатаются под тяжестью небес, под тяжестью вечерней тьмы спустившихся на кроны. Всего лишь мелкий, редкий подмосковный лес при станции, но как он полон всею полнотой земли! Как хорошо, что оболочка влюблена: от той любви и мне перепадает! Свет фонаря рассеял лунный свет. И странный гул раздался в вышине. Там, в невысокой вышине, переплетаясь, висят и тянутся во тьму стальные нити и пропускают сквозь свои волокна дрожь, и эта дрожь страшит меня, быть может, оттого, что чую, что моей влюбленной нервной оболочке совсем не по себе под этой дрожью, этим гулом. И вновь во мне, глуша меня, вздымается, как злые дрожжи, шум. И вновь, спасаясь от него, приходится уснуть».
Душа уснула, уступая место страху. Где обрывался лес, толпились и брели по всем дорогам, да и дорог не разбирая, стойки ЛЭП; невысоко над головой висели толстые стальные провода, они переплетались, разлетались и текли по разным направлениям. В них постоянно слышался опасный зуд; бывало, Шабашов вдруг чувствовал, как электричество, сочась сквозь влажный воздух, бьет больно в кожу вроде пистолетика из детства, того, похожего на карандаш, с короткою иглой, которым брали кровь из пальца на анализ. Шабашов боялся ходить под проводами, боялся очутиться под ними в дождь или, тем более, в грозу, но сильней всего боялся проходить мимо ворот и вдоль бетонного забора распределительной подстанции: там то и дело перещелкивали напряжение или там что-то делали еще – но это всякий раз сопровождалось подобьем выстрела из пушки, столь громким, что вороны, надсадно кашляя от перепуга, разлетались по округе, в далеких садоводствах принимались выть собаки, и душа, не просыпаясь, уходила в пятки.
«Ох, не хотел бы здесь иметь участок, – в который раз подумал Шабашов, шагая вдоль бетонного забора и убыстряя шаг, – здесь слишком много тока в проводах; магнитное, иль как там, поле кошмар что может сделать со здоровьем человека, и я не верю в безопасность огурцов, которые растут на здешних огородах!..» Когда-то Шабашов владел хорошей, доставшейся еще от деда-генерала, дачей в Кратове – пришлось отдать ее после развода второй жене, Ларисе, иначе та грозила отсудить квартиру на Азовской. «Уж лучше б отсудила», – в который раз сказал он сам себе, когда забор подстанции остался позади и по обеим сторонам тропинки пошел штакетник, сетка-рабица пошла, горбыль оград садового товарищества «Луч», и все, что он сказал себе затем, было затвержено, замылено, как роль, и принималось всякий раз звучать в уме, как только оставалась позади подстанция: «Жил бы на даче, в соснах, в тишине, не пил бы, потому что не хотел бы, и думал углубленно б о театре, читал бы книжечки и не женился б ни за что я на Алине Николавне, поскольку вряд ли бы тогда узнал ее вообще. На сэкономленные трезвой жизнью деньги купил бы “жигули” седьмой модели, чтоб ездить на работу и обратно, и, очень может быть, сосредоточенность, размеренность и трезвость задобрили б удачу-госпожу: не по песку под проводами шел бы нынче, а по Бульварному кольцу – на шум охотников за лишними билетиками, в предчувствии аншлага, в предвкушении и радости, и жизни, невольно вслушиваясь в шепот за спиной», здесь, как обычно, за спиной раздался пушечный щелчок подстанции; перехватило, как всегда, дыхание; как только стих переполох ворон и перестали выть далекие собаки, на Шабашова снизошло успокоение, и он в мажоре завершил обычный монолог: «Но с Фимочкой я был тогда бы только шапочно знаком и вряд ли б разглядел ее тогда… Зачем мне шепот славы за спиной – без Фимочки?.. Все к лучшему, душа моя, все к лучшему!».
Уже безоблачно насвистывая, он брел под гроздьями провисших проводов, между пустынных огороженных участков, меж луж, гравийных куч, неярко освещенных фонарями, всего двумя на весь поселок, – шел к бывшей станции юннатов, где средь аллей, тропинок, клумб былого ботанического сада, давно запущенного, ставшего с годами просто диким парком, стоит довольно длинный павильон из бревен, обшитых бурою вагонкой. Давным-давно, едва ль не полстолетия назад, он был построен для юннатских слетов и выставок юннатских достижений: там выставлялись кролики редких пород, с голубоватым или пестрым мехом и в красивых клетках, морские свинки в плексигласовых, прозрачно-мутных ящиках; пищали желтые цыплята, готовые клевать искрошенный желток прямо с ладони; там белка бегала в проволочном колесе, там ворон хохлился на ветке за решеткой (табличка утверждала, что ему уж лет пятьсот), там головастики, тритоны, рыбки-гуппи лениво шевелили хвостовым пером в аквариумах, а на лотках дразнили глаз и вызывали непрестанный ток слюны плоды мичуринских затей: огромные и дивно пахнущие яблоки, сочащиеся медом груши, тугие горки слив, и кукурузные початки, и пшеничные снопы; все это громоздилось в двух комнатах при входе, просторных, как музейный зал, за ними был зал актовый с рядами стульев, сценой и с окнами на север и на юг; там под портретами Лысенко, Дарвина, Мичурина, Михайлы Ломоносова, под кумачовым транспарантом над эстрадой, гласящим:
МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЛАТОНОВ И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ НЕВТОНОВ РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ РОЖДАТЬ, —
рапортовали юные натуралисты и получали грамоты и вымпелы из рук районного начальства. Затем юннатство захирело повсеместно. Бесхозный павильон едва не сгнил, и поразительно, что не сгорел, служа лет двадцать местом пьянки и быстреньких совокуплений, сортиром, всего чаще – сразу всем; еще и схроном беглых урок и дезертиров из соседних воинских частей, притоном тех, кто на заре семидесятых портвейн и водку заедал таблеткой нембутала и, если выжил после тех таблеток, в восьмидесятых перешел на героин.
Тогда, в разгар восьмидесятых, и начался самозахват соседних пустошей и просек. Откуда-то взялось товарищество «Луч», нарезало себе под проводами участков по пять соток, настроило заборов, будок-дач; однажды эти будки и заборы порушил именем закона большой бульдозер; потом была борьба, суды, пикеты, и в итоге товарищество «Луч» не только узаконило свои права и выстроило новые дома, но получило в собственность и бывший павильон юннатов. Помыло, поскребло его, покрасило снаружи и внутри веселой краской, вставило стекла, заменило всю проводку; в двух комнатах, где раньше были кролики, расположило бухгалтерию с конторой; в актовом зале собиралось на собрания: раз в месяц в огородную страду и раз в квартал – зимой. В начале девяностых в «Луче» случилась паника: у садоводов вышли деньги, счета за свет, за газ и воду разом выросли и, неоплаченные, грозили штрафами, которые грозили тоже оставаться неоплаченными, и это все грозило упразднением товарищества «Луч». Тут садоводы собрались в последний раз под крышей павильона. Постановили сдать его в аренду, благо солидный арендатор подвернулся: Церковь Взыскующих, – и это разом разрубило все узлы. С тех пор собрания стали проходить на свежем воздухе, у водозаборной колонки, и не по объявлению на доске – по набатному зову кувалды, бьющей в рельс, зато в повестке тех собраний ни разу не стоял пункт о долгах.
Взыскующие многое могли по тем тяжелым временам – должно быть, взыскивали порядочные взносы.
Они, не мешкая ни дня, подняли павильон домкратами и заменили все испорченные бревна. Доселе шиферная крыша в мгновенье ока стала черепичной. Взыскующие снова заменили всю проводку. Отделали все внутренние стены панелями из дуба и платана. Перестелили все полы, покрыли их фигурным ламинатом. В тех комнатах, где в баснословную эпоху были кролики, наставили компьютеров и стеллажей с портретами и книгами духовного отца Взыскующих, Яся, – он жил, как говорят, в Крыму и в павильоне не бывал ни разу, однако, судя по портретам, был человек нестарый, бритый; глаза за круглыми очками с золотой оправой глядели очень строго. Зал актовый, понятно, стал молельным. Там, говорят, вся сцена была превращена в подобье алтаря, и на молящихся глядел большой светящийся витраж – портрет духовного отца из разноцветных стеклышек: он весь переливался, говорят, и иногда из-под очков сверкало пламя. Из павильона то и дело доносилось ангельское пение, и садоводы, копошась в садах и огородах, испытывали, как они потом нередко признавались, тревогу и неясное томление. Приходил поп, ругался и ушел ни с чем. Привел казаков, те ругались и грозили мордобитием; Взыскующие заперлись и пели; тут понаехало начальство, репортеры из Москвы; казаки, грозя нагайкой всем, ушли ни с чем, если, конечно, не считать того, что оборвали по садам и огородам. Потом в Крыму арестовали за разбой отца Яся, в Москве – кого-то из Взыскующих, все прочие куда-то разбрелись, но вывезли сперва компьютеры и плиты из платана. Товарищество «Луч» лишилось верного дохода; кому ни предлагало – все арендовать молельный дом отказывались и соглашались лишь купить его навеки. И деньги предлагали все хорошие (у садоводов аж кружилась голова), но при единственном условии: сей павильон должен быть продан вместе с дивным парком. Однако парк принадлежал районной власти, и локоть укусить не удалось. Власть предложила садоводам арендатора – театр «Гистрион» Егора Мовчуна. Пусть деньги за аренду павильона Мовчун давал ничтожные, но ссориться «Лучу» с начальством не было резона. К тому ж ничтожно – лучше, чем ничто, и курочка по зернышку клюет…
«Ты, Фимочка, и только ты! Только тебе и никому другому Мовчун обязан дармовой арендой, уж я-то знаю, узнавал. По средам езжу в Селезневские, там парится со мной один блондин из мэрии; пока не понял, кто он, голого не разберешь, похоже, порученец. Он и поведал мне под мой хороший чай с медком, как ты кружила, будто чайка над волной, по всем их коридорам. Тебе помочь там не сумели, но не посмели вовсе отказать. Свели с ребятами из подмосковного губернаторства, ребята дали указание районным здешним управителям, и те, хоть и кряхтели недовольно, хоть и поругивались от досады (из рук их уходил, считай, гектар земли с красивыми деревьями), но указанье выполнили точно; теперь даже гордятся: у них есть как бы собственный театр под руководством режиссера, известного Америке с Европой!» – наполнив до краев грудь словом «Фимочка» и терпким испарением диковинных хвощей и хвой, гниющих трав, лишайников и палых листьев, завянувших цветов и мхов, невиданных во всем, наверно, прочем Подмосковье, шел Шабашов извилистой аллеей к павильону. Там, над крыльцом, горели фонари из тех, что в веке позапрошлом качались по краям карет. На травленной морилкою вагонке сверкали под подсвеченным стеклом афиши: «Вишневый сад», «Двенадцатая ночь», «Бег», «Старший сын», «Транзит», «Эта сладкая рябь океана» (то было попурри из разных текстов Гришковца) – все, что Мовчун успел поставить в павильоне. Отдельная афиша имела заголовок: «Готовится к премьере», под ним – название пьесы, на репетицию которой и явился Шабашов: «При ярком свете непогоды», автор – Тиша Балтин. Поморщившись при виде слова «Тиша» на афише, Шабашов поднялся на крыльцо.
Охранник в зимнем чернильно-белом камуфляже, здороваясь, лишь молча вскинул брови: он был совсем молчун, как говорила Фимочка, из-за контузии, полученной в Ачхой-Мартане, и Шабашов не мог припомнить его имя; не он один забыл, как оказалось, все забыли, хотя сперва и знали, а Фимочку, которая ничто не забывала никогда, спросить было неловко… В двух комнатах, где раньше выставлялась живность и плоды, теперь было фойе. Там было пусто, как всегда, и люстры не горели. Из полутьмы с обрамленных латунью фотографий на Шабашова пристально глядели актеры труппы Мовчуна. С привычной неприязнью Шабашов отвел глаза от собственного взгляда (взгляд идиота; чуб болвана; отретушированное, женское почти, сурово-сладкое лицо). Как ни просил он Мовчуна повесить фотографию из поздних, с сединой, – тот обещал, да забывал иль раздраженно говорил, что дело фотографии – не Шабашова ублажать, а умилять и привлекать пришедших зрителей, хотя бы тех из них, кто еще помнит Шабашова по комсомольскому кино. Из зала доносился ровный шум немногих голосов. Шабашов шагнул к дверям, расстегивая куртку на ходу и машинально поправляя шарф из кашемира. Остановился, прежде чем войти. Чуть шевельнув губами, прошептал: «Ну, здравствуй, Фимочка».
Из всех доктрин, что изобрел его знакомый сценарист, умней других, и в этом постоянно убеждался Шабашов, была идея третьего варианта.
«Вот ты мечтаешь, для примера, роль сыграть, – втолковывал ему тот сценарист, когда они еще не разругались на почве непочтительных намеков. Тебе ее железно обещали. Но ты боишься, что в последний миг ее вдруг отдадут Линяеву. Ах, ты твердишь, сыграть бы мне Паратова и умереть! Сыграть и умереть! Только б не отдали Линяеву! Только б не отдали Линяеву!.. В итоге ты Паратова не получаешь, поскольку решено вообще не ставить «Бесприданницу». И этот, третий, вариант, заметь, тобою не был предусмотрен… Допустим, ты предусмотрительно боишься и того, что «Бесприданницу» вообще решат не ставить. Отлично, значит, ты вдруг сам откажешься от роли, поскольку психопат. Иль потому откажешься, что вдруг получишь приглашение на съемки в Голливуд. Непредвиденность – главная особенность третьего варианта. Человек предполагает: выйдет так иль по-иному. А чем располагает Бог, чтобы напомнить о себе в безбожном мире? Третьим вариантом, Дед, третьим вариантом. Вот и выходит всякий раз – не так иль по-иному, а по-третьему».
Как долго Шабашов гадал: ждет его Фимочка в особенном волнении – иль просто ждет, по долгу службы! А в зал вошел и сразу понял: там ее нет вообще. Зато нос в нос столкнулся с Мовчуном.
Мовчун, здороваясь, принюхался и головою покачал:
– Что за дрянь вы курите, Дед? Дышите в лицо, партнеры жалуются.
Андрей Викторович Дмитриев
Собрание произведений #2
«Свод сочинений Андрея Дмитриева – многоплановое и стройное, внутренне единое повествование о том, что происходило с нами и нашей страной как в последние тридцать лет, так и раньше – от революции до позднесоветской эры, почитавшей себя вечной. Разноликие герои Дмитриева – интеллектуалы и работяги, столичные жители и провинциалы, старики и неоперившиеся юнцы – ищут, находят, теряют и снова ищут главную жизненную ценность – свободу, без которой всякое чувство оборачивается унылым муляжом. Проза Дмитриева свободна, а потому его рассказы, повести, романы неоспоримо доказывают: сегодня, как и прежде, реальны и чувство принадлежности истории (ответственности за нее), и поэзия, и любовь» (Андрей Немзер). Во вторую книгу вошли повесть «Призрак театра», романы «Бухта радости» и «Крестьянин и тинейджер». Решением жюри конкурса «Русский Букер» «Крестьянин и тинейджер» признан лучшим русским романом за 2011 и 2012 годы. Роман удостоен также премии «Ясная Поляна» и вошел в короткий список премии «Большая книга» (2012).
Андрей Дмитриев
Крестьянин и тинейджер
Призрак театра
Повесть
По вечерам нам нужно жить и радоваться; ночами нужно спать. Вечерняя репетиция, переходящая в ночную, это измывательство, измор, но я вынужден, и выбора у меня нет. Мовчун сказал, что я на договоре, но договор со мной пока не будет им подписан. Пока я должен буду год пахать в неопределенности, на голых нервах, совсем не пить, «а там посмотрим». То есть не я посмотрю, а он посмотрит, но это мы еще посмотрим, кому смотреть.
Любой режиссер – бонапарт, сказал мне один сценарист. Так это кинорежиссер. Сидит себе на барабане: «Массовка пошла! Танки пошли! Кавалерия пошла! Самолеты пошли! Батарея – огонь! Из всех стволов – пли! Пара на заднем плане – целуется!». Театральный режиссер, по моим многолетним наблюдениям, не бонапарт, а метрдотель (Мовчун говорит «метроотель», я его раз поправил – теперь вот год не пить и без контракта): «Как входишь?.. Как выходишь?.. – и все своим унылым, насморочным голосом. – Как держишь ногу?.. Как держишь паузу?.. Как держишь поднос? Разве Фирс, профессионал, – он так держит поднос?». Не люблю я Чехова. Не самого Чехова, но морду, какую надо надевать, произнося на людях слово «Чехов».
Ну, Фирс. Играл я Фирса и поднос носил. А много слов у Фирса? Много ли смысла в его подносе? Много ли смысла в лакейских его словах? С какой, однако, мордой давал я интервью: как я играл этого Фирса; как его на даче заперли и там забыли! Правду сказать, теперешняя роль – она ничего себе, ничего… Почти ничего, но уже и кое-что: две сценки, во второй – целый монолог; и так здорово написано, что даже учить не пришлось, все запомнилось само, с первой читки, как детский стих. Автор многообещающий. Пусть и не мне обещает, пусть его пьесы, когда ему фишка выпадет, Машков с Безруковым будут играть, и пусть в наш павильон он тогда уже и не сунется, и разве что по доброй памяти не поторопится плюнуть на нас со своей высоты, но мне приятно быть в числе свидетелей и соучастников его дебюта. Роль у меня – Торговец оружием, причем не араб и не кавказец, а наш, родной, и в этом соль. Демоническая личность, что-то вкрадчивое, и не злодей: у него тоже есть своя правда. Одного боюсь: Мовчун велит комиковать. Он любит, когда второй план комикует. Смешное помнится на расстоянье, так он шутит. То есть вторые роли зрителю запомнить легче, когда они смешны, так он считает. А я считаю, ему бы в цирке работать. Он путает второй план с интермедией, вторые роли – со вставными номерами. Он попросту не знает, что делать со вторым планом, и никогда не знал. Еще в училище, мне говорили, ему об этом говорили, а он – что? Морду наденет, вскинет ее: «Мне нравится!», что означает: «Все – дураки, а я гений»…
Надо отвлечься. Нельзя мне перед репетицией думать о репетиции. Вот не спросил у Мовчуна, начнет ли он платить за репетиции. Я дожил: я и об этом не спросил; такая в жизни полоса. Возьмите у меня интервью и задайте мне, немолодому уже человеку, всего один вопрос: почему наш актер пьет и часто спивается? И я отвечу, как смогу, коротко.
Итак, вопрос: почему мы, актеры советского, теперь российского театра и кино, многие спились? Вот мой ответ: потому что нельзя нам было безнаказанно и без последствий для душевного здоровья из года в год играть идиотов: «Товарищ Сергеев! Товарищ Журбин! Как у тебя со встречным планом? Неужто некого бросить в прорыв? Как на это посмотрят товарищи по ячейке? Как на бюро райкома поглядят на твои аморальные отношения с товарищем Фиалковой на общем фоне недовыполнения и на глазах у коллектива? И ты – не куксись, не скрывай! Тебя девчата видели с ней в плавнях! Верно, девчата? (Те, мелодично: “Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!”)». Теперь задайте мне второй вопрос: почему мы, уж очень многие актеры советского театра и кино, так славно начинали – и так конфузливо и суетливо, словно стыдясь себя, заканчиваем?.. По той же самой причине, таков мой честный ответ. Нельзя годами играть идиотов, придуманных идиотами. Профессия этого не прощает: ей вдруг делается противно, и она уходит. «Неужели не удержите переходящее? То-то, товарищ! Взял знамя – держи его! Крепче держи, не отдавай никому! Ты только представь, товарищ, какая замечательная жизнь скоро наступит! Ты же мечтатель! И вы, девчата, вы представьте (те, колокольчиком певучим: “Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!”)! Представили? То-то, гляжу, у вас слезинка! И лучики в глазах! А вот смешинка! Вот и лукавинка, ты глянь, дорогой ты мой человек! Спасибо тебе, товарищ! Дай пять! Удачи, товарищ! И помни, товарищ: с размаху, молотом – и по кувалде! И по кувалде! И по кувалде!».
Кому-то повезло, попал к умелому метрдотелю, культурным бонапартом был подхвачен, и – роли: тот же Чехов, тот же Горький, да тот же Зорин и Вампилов; вот это роли, это рост; а если кто и пил, как все, то, ясное дело, бросил… Везло ли мне? Мне шестьдесят шесть лет; играл недавно Фирса, играл Молчалина однажды, играл в «Транзите» Караваева, играл другие роли на театре, играл в кино: все больше комсомольцев, коммунистов, бывало, что и мудрых следователей («Ну что ж, беги, Хрипун, беги, коли сбежал, но помни: от меня убежать можно, от себя – никогда!») и получил заслуженный итог: на облузганной подсолнухом электричке еду в Саванеевку, во временное место дислокации театра «Гистрион», на вечерне-ночную репетицию, за которую мне вряд ли кто заплатит. Мовчун говорит: ему Лужков обещал помещение внутри Бульварного кольца. Ну, не в смысле Лужков, – но один такой человек, который к Лужкову дверь открывает ногой. Что ж, исполать, а то мне каждый день на электричке – не по годам, да и не по таланту.
Талант, какой-никакой, есть. Не везло мне, не скрываю, но то издержки профессии, в ней не везет большинству. Шестьдесят шесть – не старость, еще и силы могут расцвести, и фишка выпасть, я знаю много таких хороших примеров. Но – не верю! Почему-то я не верю, что Лужков даст помещение. «Держи карман, не Мейерхольд, на всех не напасешься», – вот что нам скажет мэр и будет прав. Даже если мой Торговец оружием станет событием – ну для кого? Даже если Мовчун вдруг мысленно увидит меня в хороших будущих ролях и даже если, собираясь ставить Лира, он вдруг возьмет меня на Лира, и я, даст Бог, не оплошаю – кто мне в ладоши будет хлопать? Столичный зритель в павильон не ходит, театровед на электричке в глушь не ездит; возможно, Мовчуну удастся заманить к нам на премьеру телевидение. Не то чтоб, в смысле, Телевидение, – но, да, один такой телеканал…
…Узоры-2 и дальше Саванеевка: там выхожу, и радость чувствую, и предвкушаю, и было так со мной всегда перед началом репетиции: всегда и радость чувствую, и предвкушаю – хотя, казалось бы, ну что тут нынче предвкушать? Приду я в павильон, топить еще не начали, Мовчун не скажет мне: «Дыхни», но ведь принюхается! Он виду не подаст, что он принюхался, но я не лох, я ж вижу: он принюхивается! Я, ясно, сразу злюсь, в роль с ходу не войду, в образ никак не попадаю, ну а Мовчун… Мовчун, пусть молча, а кричит!!!
Нельзя нервировать себя перед репетицией. Нельзя мне перед репетицией о ней думать. Иначе ты не донесешь себя, все расплескаешь и только зря всего себя измучишь.
В окне темнеет; в октябре темнеет быстро; вот саванеевские гаражи: длиннющая, на две минуты хода электрички, сплошная линия гаражных серых будок из силиконового кирпича и надпись бурой краской по всей линии, чтоб пассажиры электричек, все те, что с левой от столицы стороны, могли читать ее подольше – огромными, под крышу гаражей, по букве на гараж, и аккуратнейшими, знать, по трафарету сделанными буквами:
«СОВЕТНИК ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ КРАСНОСМОРОДЧЕНКО В. И. – ПЕДРИЛЛА, ВЗЯТОЧНИК И МРАЗЬ».
На слове «МРАЗЬ» должны включиться тормоза, и точно – тормозим, вагон подергивает, стук на стыках реже, последний перед остановкой жалостливый стон колес – все, братцы, встали. Вставай, душа моя (так я себя зову не вслух), спеши на выход; выйдешь – можешь не спешить.
Я не опаздываю никогда, я никогда не тороплюсь, я на вокзал, на встречу, на прием, на Спартачок приду за час, а на спектакль – за два. Сегодня нам назначено на семь, и на моих – шесть с малыми минутами, на станционных, что над кассами, шесть двадцать – эти врут. Но даже если бы не врали: идти неспешным шагом через лес – минут пятнадцать. Кто не торопится, тот успевает, сказал мне один сценарист. Он, видит Бог, опаздывает всюду, но преуспел и впрямь, чего я о себе сказать бы рад, да не могу. Я как-то указал ему на это. В ответ он вспомнил чью-то мудрость: «Когда ты видишь: опоздал, – полезно замедлить шаг». Вот-вот, ответил я ему, я замедляю шаг, но, как ни медлю, удача успевает увильнуть. Неспешным шагом прихожу за час и – поздно: след ее простыл, разве махнет хвостом издалека, мол, «я другому отдана». Ошибка найдена, обрадовался он. Секрет не в том, чтобы неспешно приходить за час, а в том секрет, чтоб не бояться опоздать. Да, да, выходишь не за час, а за минуту; и, зная точно: опоздал, – не паникуешь, а, нарочно замедляя шаг, идешь куда и шел, допустим, на вокзал… Да, поезд твой уже ушел, зато удача, очень может быть, тебя нарочно поджидает на пустом и одному тебе оставленном перроне… Тут он подумал, отпил и напомнил с грустью: «Со мной всегда так и бывало». Потом еще подумал, пригубил еще чуть-чуть и мне в лицо сказал: «Быть может, дело в том, кого, однако, ждут. Иного будут ждать и час, и два, и три, и сколько он ни пожелает, другого ждать не станут ни за что, даже обрадуются». Намек я понял, пусть намек и был абстрактный. На этом мы рассорились; который год руки не подаю. А ведь напрасно, прав был сценарист. Меня давно, как я бы ни боялся опоздать, никто не ждет, да и Алина Николаевна, при всей ее барсучьей ревности, не ждет: за стол садится без меня; я точно знаю: утром приплетусь, измученный, к нам на Азовскую – и что услышу с кухни? «Я уж позавтракала, есть хочешь – разогрей…»
«Никто не ждет» – зачем я лгу своей надежде? Затем и лгу, чтобы она, моя надежда, не слишком рано распускала хвост. Я лгу себе, чтобы не сглазить. Вчера, как только Фимочка меня спросила после репетиции, буду ли точно завтра (то есть нынче), а я ответил: «Точно буду»; когда она в ответ сказала: «Буду ждать вас», – я, чтобы не сглазить смысл, услышанный вдруг мной в ее ответе, и бровью не повел, я даже самому себе старался не признаться, что я услышал, я изо всех сил внушал себе: она волнуется по долгу службы, придут ли все на вечер-ночь. По долгу службы, только и всего, но следует признать: пока я тратил силы на то, чтоб не поверить и чтобы, стало быть, не сглазить – во мне надежда пела, токовала, как тетерка, и до сих пор еще, как я бы на нее сейчас ни цыкал, чтоб не сглазила, – токует, и поет, и распускает перья…
Хорошо не спешить. Курнуть на лавочке дешевых сигарет, каких не пробовали те, что выстроили там, на поле за путями, коттеджи с башнями и флюгерами, в пять этажей, с колоннами; венеры и давиды голые из мрамора на крышах, в нишах, на террасах, и окна не горят нигде. Ужасный стиль, ужасные сердца. Как можно строить мавританский замок средь подмосковных нищих дач? И чтоб давиды и венеры впустую пялились на елки и осины! Как им самим, тем, что не пробовали «Приму», не жутко жить в нагромождении замков и дворцов из всех эпох и стран, из подростковых снов, диснеевских мультяшек, из сладко-вычурных фантазий, в шанхаях бунгало, шале, палаццо и кремлей, лепящихся один к другому теснее, чем на пне опята? Вот наворочали: кто в лес, кто по дрова, окно в окно, забор к забору, не продохнуть! Такое видел я на кладбище в предместье Барселоны. Что ж, там, на кладбище, уместно: те надгробные дворцы – для мертвых, для того, чтобы живые удивлялись тем дворцам со стороны; и я дивился, спору нет, но чтобы внутрь меня или других тянуло – брр, никто пока не рвется…
Хотя, возможно, многие из них и пробовали «Приму», те, кто по зонам нагулял авторитет – прежде чем выйти и наворовать на мавританский замок. И я на них не злюсь, я перед ними – пас, поскольку не сидел и в этой роли не могу себя представить, так это страшно.
Пожалуй, с разговора о дешевом табаке завяжется наш с Фимочкой желанный разговор. «Зачем вы курите такую дрянь перед работой, Шабашов? Вы дышите своей махрою всем в лицо на сцене! Партнеров это беспокоит». Не самое приятное начало, но, препираясь с нею, можно длить и длить общение, а после уступить, и извиниться от души, и улыбнуться вдруг тепло, и перейти на что-нибудь хорошее, сказать приятное и заинтриговать, и, прежде чем Мовчун всех призовет на сцену, закрепить сложное впечатление и исподволь внушить, что продолженье разговора неизбежно.
Фимочка – наша заведующая труппой; она же и помреж; она, по сути, и директор, хотя директором себя считает, да им и числится формально, режиссер Мовчун. Ей двадцать пять, на сорок лет меня моложе. Бывал я хват, а с ней робею, я даже комплимент боюсь сказать – а ну как он получится развязный?.. Она собою сильно хороша и начинала, что естественно, актрисой, но скоро стало ясно всем: живые люди ей намного интересней, чем придуманные, организаторский талант у ней повыше, чем актерский, ум у нее не артистически-мечтательный, а деловой и воля мощная – ну как ей подчиняться прихотям метрдотеля-режиссера! Ей на роду написано – не исполнять, а управлять. Я верю: не пройдет и двух сезонов, как она примется рулить не «Гистрионом» Мовчуна, а чем-нибудь и впрямь внутри Бульварного кольца! Или заделается антрепренером, или создаст свое агентство, свой фестиваль наладит, но театру не изменит никогда! Я слышал от Линяева, ну, от того, что жалуется ей на мой табак: ей предлагали, и не раз, уйти во МХАТ и чуть ли не сменить директора «Ленкома», и непонятно, отчего она ответила отказом, предпочитая прозябать в мовчунском павильоне… Это Линяеву, болвану, непонятно! Я ж не дурак, я понимаю и отдаю ей должное. Она не может кинуть нас, пока не выберемся мы из павильона, пока мы не расправим плечи! Она не может бросить дело, за которое взялась, на полдороге. Она физически проигрывать не может – вот оттого ее и требуют во МХАТ!..
Уйдет она – и я уйду. И, ежели права моя надежда: вчерашние слова «Я буду ждать вас» – не по долгу службы, но из сердца, я буду с ней повсюду: да хоть сторожем во МХАТе, хоть буфетчиком в «Ленкоме», хоть псом на коврике в дверях, а если сглазила надежда, обозналась, – уйду вообще, уйду куда глаза глядят, но я с Алиной Николавной не останусь…
Стоп, стоп, курнем вторую сигаретку; зачем я так с собой? «Буфетчик», «сторож», «пес» – согласен, что на это я согласен, но если б я годился только в сторожа и если б выглядел, как пес, моя надежда перья б не пушила! Талант, я повторяю, есть. Осанка – не сутулая, и голос бархатный по тембру, и не дурак, и вот, совсем не пью (хотя б за то спасибо Мовчуну), и внешность – с сединой, со сдержанным намеком. Когда был молодым, в училище и после, – я мордой и повадкой кругленький был, сладенький, при росте в метр девяносто; девицы млели; вспоминать противно. С годами внешность возмужала и обрела черты породы, благородства, могу играть хоть лордов, хоть дворецких. Меня любили раньше дурочки, простушки да резвушки – теперь льнут женщины со вкусом и умом. У Фимочки – и вкус, и ум, но слишком, слишком молода.
Ну почему она не старше? Ну почему не сорок ей, не пятьдесят? Ну почему не семьдесят? Я ведь не то чтобы молоденькой увлекся – я человека полюбил! (Я будто слышу: «Как же, человека! А грудь у человека? Неужто не хотелось тихо сзади подойти и ласково обнять ее за грудь?». Что спорить с пошляками! Я, чтоб не спорить, и не отрицаю ничего. Я б обнял.) И мне неважно, сколько ей сейчас. А ей как раз, быть может, это важно. Быть может, для нее я – и старик… Я не имею права медлить с главным разговором. Пока никто за ней не приезжает на машине, никто не присылает ей цветов. Пока она ни с кем не точит ласковые лясы по своему мобильнику, прикрыв его ладошкой, но только – громко, четко! – о делах. Пока у нее нет никого, и это точно, иначе бы все знали. Но страшно, страшно хороша! Однажды этакий такой какой-нибудь подрулит к павильону, из «мерседеса» выползет, выползень, с букетом орхидей – и лучше бы тогда мне сразу сдохнуть!..
Там, на испанском кладбище, зажглось одно окно. Душа, молчи, умолкни, не зуди! Шесть сорок три минуты – на моих часах и семь с минутами на тех, что врут над головой; пора.
То не душа, как он подумал было, смолкла – то шум в душе умолк и зуд утих. Душа, наоборот, заговорила, но о своем – и на своем бессловном и безмолвном языке.
А что есть разговор души, когда она не трудится? Или когда не рвется ввысь, домой?
Подробная приязнь к земной юдоли, только и всего.
О чем она приязненно бормочет, пока влюбленный Шабашов, не торопясь, шагает по тропинке через лес?
О том, что видит, и о том, что одобряет.
Перевожу на шум; за точность не ручаюсь: «Вот мелкий лес в вечерней и прозрачной тьме. Тропинка всхлипывает и скрипит под защищенной кожею быка стопой моей влюбленной оболочки, что неопасно зябнет в оболочках из замысловато пестрой, дивно прочной нити хлопка, из толстой, теплой нитки шерстяной, из нити той, что пряли в преисподней, и прозванной чудесно синтепон, обвернутой другой, суровой нитью из тех же огнедышащих миров, куда мне для моей же пользы и спасенья ход заказан, и я могу лишь восхищаться именем той нити: полиэстр, ее умением отталкивать потоки вод, что то и дело льются с тех высот, где ждет меня мой милый дом. Вот дерево. Ворона грузно перепрыгнула с сосны на гнутую березу; та на мгновение еще согбенней стала, но через миг, упрямо фыркнув прутьями с остатками листвы, вновь попыталась стать прямой. Вот свет луны, пока еще неяркой и прозрачной. Вот вспыхивает лужа. Вот в луже, словно звезды Млечного Пути, дрожат, мерцают и плывут листья берез, осин, и лип, и старых вязов. Кусты качаются и трутся о стволы. Стволы шатаются под тяжестью небес, под тяжестью вечерней тьмы спустившихся на кроны. Всего лишь мелкий, редкий подмосковный лес при станции, но как он полон всею полнотой земли! Как хорошо, что оболочка влюблена: от той любви и мне перепадает! Свет фонаря рассеял лунный свет. И странный гул раздался в вышине. Там, в невысокой вышине, переплетаясь, висят и тянутся во тьму стальные нити и пропускают сквозь свои волокна дрожь, и эта дрожь страшит меня, быть может, оттого, что чую, что моей влюбленной нервной оболочке совсем не по себе под этой дрожью, этим гулом. И вновь во мне, глуша меня, вздымается, как злые дрожжи, шум. И вновь, спасаясь от него, приходится уснуть».
Душа уснула, уступая место страху. Где обрывался лес, толпились и брели по всем дорогам, да и дорог не разбирая, стойки ЛЭП; невысоко над головой висели толстые стальные провода, они переплетались, разлетались и текли по разным направлениям. В них постоянно слышался опасный зуд; бывало, Шабашов вдруг чувствовал, как электричество, сочась сквозь влажный воздух, бьет больно в кожу вроде пистолетика из детства, того, похожего на карандаш, с короткою иглой, которым брали кровь из пальца на анализ. Шабашов боялся ходить под проводами, боялся очутиться под ними в дождь или, тем более, в грозу, но сильней всего боялся проходить мимо ворот и вдоль бетонного забора распределительной подстанции: там то и дело перещелкивали напряжение или там что-то делали еще – но это всякий раз сопровождалось подобьем выстрела из пушки, столь громким, что вороны, надсадно кашляя от перепуга, разлетались по округе, в далеких садоводствах принимались выть собаки, и душа, не просыпаясь, уходила в пятки.
«Ох, не хотел бы здесь иметь участок, – в который раз подумал Шабашов, шагая вдоль бетонного забора и убыстряя шаг, – здесь слишком много тока в проводах; магнитное, иль как там, поле кошмар что может сделать со здоровьем человека, и я не верю в безопасность огурцов, которые растут на здешних огородах!..» Когда-то Шабашов владел хорошей, доставшейся еще от деда-генерала, дачей в Кратове – пришлось отдать ее после развода второй жене, Ларисе, иначе та грозила отсудить квартиру на Азовской. «Уж лучше б отсудила», – в который раз сказал он сам себе, когда забор подстанции остался позади и по обеим сторонам тропинки пошел штакетник, сетка-рабица пошла, горбыль оград садового товарищества «Луч», и все, что он сказал себе затем, было затвержено, замылено, как роль, и принималось всякий раз звучать в уме, как только оставалась позади подстанция: «Жил бы на даче, в соснах, в тишине, не пил бы, потому что не хотел бы, и думал углубленно б о театре, читал бы книжечки и не женился б ни за что я на Алине Николавне, поскольку вряд ли бы тогда узнал ее вообще. На сэкономленные трезвой жизнью деньги купил бы “жигули” седьмой модели, чтоб ездить на работу и обратно, и, очень может быть, сосредоточенность, размеренность и трезвость задобрили б удачу-госпожу: не по песку под проводами шел бы нынче, а по Бульварному кольцу – на шум охотников за лишними билетиками, в предчувствии аншлага, в предвкушении и радости, и жизни, невольно вслушиваясь в шепот за спиной», здесь, как обычно, за спиной раздался пушечный щелчок подстанции; перехватило, как всегда, дыхание; как только стих переполох ворон и перестали выть далекие собаки, на Шабашова снизошло успокоение, и он в мажоре завершил обычный монолог: «Но с Фимочкой я был тогда бы только шапочно знаком и вряд ли б разглядел ее тогда… Зачем мне шепот славы за спиной – без Фимочки?.. Все к лучшему, душа моя, все к лучшему!».
Уже безоблачно насвистывая, он брел под гроздьями провисших проводов, между пустынных огороженных участков, меж луж, гравийных куч, неярко освещенных фонарями, всего двумя на весь поселок, – шел к бывшей станции юннатов, где средь аллей, тропинок, клумб былого ботанического сада, давно запущенного, ставшего с годами просто диким парком, стоит довольно длинный павильон из бревен, обшитых бурою вагонкой. Давным-давно, едва ль не полстолетия назад, он был построен для юннатских слетов и выставок юннатских достижений: там выставлялись кролики редких пород, с голубоватым или пестрым мехом и в красивых клетках, морские свинки в плексигласовых, прозрачно-мутных ящиках; пищали желтые цыплята, готовые клевать искрошенный желток прямо с ладони; там белка бегала в проволочном колесе, там ворон хохлился на ветке за решеткой (табличка утверждала, что ему уж лет пятьсот), там головастики, тритоны, рыбки-гуппи лениво шевелили хвостовым пером в аквариумах, а на лотках дразнили глаз и вызывали непрестанный ток слюны плоды мичуринских затей: огромные и дивно пахнущие яблоки, сочащиеся медом груши, тугие горки слив, и кукурузные початки, и пшеничные снопы; все это громоздилось в двух комнатах при входе, просторных, как музейный зал, за ними был зал актовый с рядами стульев, сценой и с окнами на север и на юг; там под портретами Лысенко, Дарвина, Мичурина, Михайлы Ломоносова, под кумачовым транспарантом над эстрадой, гласящим:
МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ ПЛАТОНОВ И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ НЕВТОНОВ РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ РОЖДАТЬ, —
рапортовали юные натуралисты и получали грамоты и вымпелы из рук районного начальства. Затем юннатство захирело повсеместно. Бесхозный павильон едва не сгнил, и поразительно, что не сгорел, служа лет двадцать местом пьянки и быстреньких совокуплений, сортиром, всего чаще – сразу всем; еще и схроном беглых урок и дезертиров из соседних воинских частей, притоном тех, кто на заре семидесятых портвейн и водку заедал таблеткой нембутала и, если выжил после тех таблеток, в восьмидесятых перешел на героин.
Тогда, в разгар восьмидесятых, и начался самозахват соседних пустошей и просек. Откуда-то взялось товарищество «Луч», нарезало себе под проводами участков по пять соток, настроило заборов, будок-дач; однажды эти будки и заборы порушил именем закона большой бульдозер; потом была борьба, суды, пикеты, и в итоге товарищество «Луч» не только узаконило свои права и выстроило новые дома, но получило в собственность и бывший павильон юннатов. Помыло, поскребло его, покрасило снаружи и внутри веселой краской, вставило стекла, заменило всю проводку; в двух комнатах, где раньше были кролики, расположило бухгалтерию с конторой; в актовом зале собиралось на собрания: раз в месяц в огородную страду и раз в квартал – зимой. В начале девяностых в «Луче» случилась паника: у садоводов вышли деньги, счета за свет, за газ и воду разом выросли и, неоплаченные, грозили штрафами, которые грозили тоже оставаться неоплаченными, и это все грозило упразднением товарищества «Луч». Тут садоводы собрались в последний раз под крышей павильона. Постановили сдать его в аренду, благо солидный арендатор подвернулся: Церковь Взыскующих, – и это разом разрубило все узлы. С тех пор собрания стали проходить на свежем воздухе, у водозаборной колонки, и не по объявлению на доске – по набатному зову кувалды, бьющей в рельс, зато в повестке тех собраний ни разу не стоял пункт о долгах.
Взыскующие многое могли по тем тяжелым временам – должно быть, взыскивали порядочные взносы.
Они, не мешкая ни дня, подняли павильон домкратами и заменили все испорченные бревна. Доселе шиферная крыша в мгновенье ока стала черепичной. Взыскующие снова заменили всю проводку. Отделали все внутренние стены панелями из дуба и платана. Перестелили все полы, покрыли их фигурным ламинатом. В тех комнатах, где в баснословную эпоху были кролики, наставили компьютеров и стеллажей с портретами и книгами духовного отца Взыскующих, Яся, – он жил, как говорят, в Крыму и в павильоне не бывал ни разу, однако, судя по портретам, был человек нестарый, бритый; глаза за круглыми очками с золотой оправой глядели очень строго. Зал актовый, понятно, стал молельным. Там, говорят, вся сцена была превращена в подобье алтаря, и на молящихся глядел большой светящийся витраж – портрет духовного отца из разноцветных стеклышек: он весь переливался, говорят, и иногда из-под очков сверкало пламя. Из павильона то и дело доносилось ангельское пение, и садоводы, копошась в садах и огородах, испытывали, как они потом нередко признавались, тревогу и неясное томление. Приходил поп, ругался и ушел ни с чем. Привел казаков, те ругались и грозили мордобитием; Взыскующие заперлись и пели; тут понаехало начальство, репортеры из Москвы; казаки, грозя нагайкой всем, ушли ни с чем, если, конечно, не считать того, что оборвали по садам и огородам. Потом в Крыму арестовали за разбой отца Яся, в Москве – кого-то из Взыскующих, все прочие куда-то разбрелись, но вывезли сперва компьютеры и плиты из платана. Товарищество «Луч» лишилось верного дохода; кому ни предлагало – все арендовать молельный дом отказывались и соглашались лишь купить его навеки. И деньги предлагали все хорошие (у садоводов аж кружилась голова), но при единственном условии: сей павильон должен быть продан вместе с дивным парком. Однако парк принадлежал районной власти, и локоть укусить не удалось. Власть предложила садоводам арендатора – театр «Гистрион» Егора Мовчуна. Пусть деньги за аренду павильона Мовчун давал ничтожные, но ссориться «Лучу» с начальством не было резона. К тому ж ничтожно – лучше, чем ничто, и курочка по зернышку клюет…
«Ты, Фимочка, и только ты! Только тебе и никому другому Мовчун обязан дармовой арендой, уж я-то знаю, узнавал. По средам езжу в Селезневские, там парится со мной один блондин из мэрии; пока не понял, кто он, голого не разберешь, похоже, порученец. Он и поведал мне под мой хороший чай с медком, как ты кружила, будто чайка над волной, по всем их коридорам. Тебе помочь там не сумели, но не посмели вовсе отказать. Свели с ребятами из подмосковного губернаторства, ребята дали указание районным здешним управителям, и те, хоть и кряхтели недовольно, хоть и поругивались от досады (из рук их уходил, считай, гектар земли с красивыми деревьями), но указанье выполнили точно; теперь даже гордятся: у них есть как бы собственный театр под руководством режиссера, известного Америке с Европой!» – наполнив до краев грудь словом «Фимочка» и терпким испарением диковинных хвощей и хвой, гниющих трав, лишайников и палых листьев, завянувших цветов и мхов, невиданных во всем, наверно, прочем Подмосковье, шел Шабашов извилистой аллеей к павильону. Там, над крыльцом, горели фонари из тех, что в веке позапрошлом качались по краям карет. На травленной морилкою вагонке сверкали под подсвеченным стеклом афиши: «Вишневый сад», «Двенадцатая ночь», «Бег», «Старший сын», «Транзит», «Эта сладкая рябь океана» (то было попурри из разных текстов Гришковца) – все, что Мовчун успел поставить в павильоне. Отдельная афиша имела заголовок: «Готовится к премьере», под ним – название пьесы, на репетицию которой и явился Шабашов: «При ярком свете непогоды», автор – Тиша Балтин. Поморщившись при виде слова «Тиша» на афише, Шабашов поднялся на крыльцо.
Охранник в зимнем чернильно-белом камуфляже, здороваясь, лишь молча вскинул брови: он был совсем молчун, как говорила Фимочка, из-за контузии, полученной в Ачхой-Мартане, и Шабашов не мог припомнить его имя; не он один забыл, как оказалось, все забыли, хотя сперва и знали, а Фимочку, которая ничто не забывала никогда, спросить было неловко… В двух комнатах, где раньше выставлялась живность и плоды, теперь было фойе. Там было пусто, как всегда, и люстры не горели. Из полутьмы с обрамленных латунью фотографий на Шабашова пристально глядели актеры труппы Мовчуна. С привычной неприязнью Шабашов отвел глаза от собственного взгляда (взгляд идиота; чуб болвана; отретушированное, женское почти, сурово-сладкое лицо). Как ни просил он Мовчуна повесить фотографию из поздних, с сединой, – тот обещал, да забывал иль раздраженно говорил, что дело фотографии – не Шабашова ублажать, а умилять и привлекать пришедших зрителей, хотя бы тех из них, кто еще помнит Шабашова по комсомольскому кино. Из зала доносился ровный шум немногих голосов. Шабашов шагнул к дверям, расстегивая куртку на ходу и машинально поправляя шарф из кашемира. Остановился, прежде чем войти. Чуть шевельнув губами, прошептал: «Ну, здравствуй, Фимочка».
Из всех доктрин, что изобрел его знакомый сценарист, умней других, и в этом постоянно убеждался Шабашов, была идея третьего варианта.
«Вот ты мечтаешь, для примера, роль сыграть, – втолковывал ему тот сценарист, когда они еще не разругались на почве непочтительных намеков. Тебе ее железно обещали. Но ты боишься, что в последний миг ее вдруг отдадут Линяеву. Ах, ты твердишь, сыграть бы мне Паратова и умереть! Сыграть и умереть! Только б не отдали Линяеву! Только б не отдали Линяеву!.. В итоге ты Паратова не получаешь, поскольку решено вообще не ставить «Бесприданницу». И этот, третий, вариант, заметь, тобою не был предусмотрен… Допустим, ты предусмотрительно боишься и того, что «Бесприданницу» вообще решат не ставить. Отлично, значит, ты вдруг сам откажешься от роли, поскольку психопат. Иль потому откажешься, что вдруг получишь приглашение на съемки в Голливуд. Непредвиденность – главная особенность третьего варианта. Человек предполагает: выйдет так иль по-иному. А чем располагает Бог, чтобы напомнить о себе в безбожном мире? Третьим вариантом, Дед, третьим вариантом. Вот и выходит всякий раз – не так иль по-иному, а по-третьему».
Как долго Шабашов гадал: ждет его Фимочка в особенном волнении – иль просто ждет, по долгу службы! А в зал вошел и сразу понял: там ее нет вообще. Зато нос в нос столкнулся с Мовчуном.
Мовчун, здороваясь, принюхался и головою покачал:
– Что за дрянь вы курите, Дед? Дышите в лицо, партнеры жалуются.