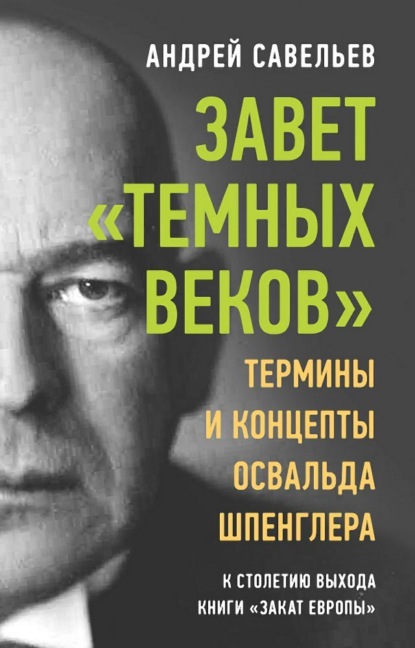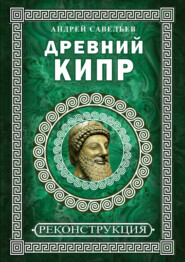По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Завет «темных веков». Термины и концепты Освальда Шпенглера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Высшее мышление есть мышление о смерти (Шпенглер). «Каждая религия, каждое природопознание, каждая философия проистекает из этого пункта. Каждая большая символика приноравливает свой язык форм к культу мертвых, форме погребения, украшению гробниц». «Страх смерти – источник не только всякой религии, но и всей философии и естествознания».
Символика закрывает проблему смерти, снимает ощущение страха от видимой и возможной смерти. Обереги призваны отпугнуть смерть, которая тоже обозначается символом или образом. В символизме смерти остывает страх перед ней, который замещается героическим неприятием или подвижническим приятием смерти – борьбой становящейся личности и умиротворением личности, достигшей своего высшего воплощения.
Жизнь может произойти только от другой жизни, которая приносится в жертву. Смерть связана с чудом – чудом и загадкой иной жизни, чудом и загадкой воскресения. Смерть становится открытием бессмертия.
Природа и судьба
Шпенглер критичен к телеологии – попыткам заменить или дополнить причинность целевыми ориентирами на будущее, которые можно обнаружить в прошлом. Он прав в том, что цели причинности не определяют. Они предположительны или желательны, но совершенно никак не связаны с казуальностью. Только постфактум можно прикинуться, что цели соответствуют причинно-следственным связям закончившегося процесса – просто приписать процессу такие цели. Подобными антинаучными упражнениями пробавляются профанные прогнозисты, астрологи, пропагандисты механистических социальных учений (марксисты, прежде всего). Они хотят выглядеть оседлавшими время и навязать свои фантазии другим, будто бы зная «чем все закончится». Вряд ли они осознают, что мешают пространство и время в своих прогностических выдумках.
«Телеология – это карикатура идеи судьбы». Там, где время – творческое начало, там судьба – скрытый закон «крупнозернистой» истории, а пространство – число, выраженное в вещных диспозициях «мелкозернистой» действительности. Судьба – это сплетение личной идеи с замыслом Творца, а попытка подверстать все под конечную цель – это иллюзорный принцип, будто бы познанного замысла, который замыкается в сетке известных причин с исключением неподходящих под цель иных причин, а также самого предположения, что они могут быть непознанными и непознаваемыми. Чувствование и переживание идеи – это комплексное восприятие замыслов, а не конечных итогов каких-либо процессов. Без переживания судьбы она остается набором случайностей, а не путеводной звездой для живого, творческого человека. Без всякого наукоподобного расчета верующий и любящий испокон веков прозревает судьбу, а не конечные цели своей конечной жизни.
Только сущий дурак будет требовать от поэта или художника подчиняться его измышлениям и менять судьбу на цель. Собственно, такое одурение – свойство нашей современности, в которой творческое начало мельчает и исчезает под давлением «корифеев всех наук», которых полно не только среди правящих невежд, но и среди ничем не управляющих рабов.
История свершается гораздо быстрее, чем происходят природные изменения. Что не исключает стремительных катастроф. И в условиях катастроф человек зрит бытие богов, облекая явления природы в их образы и приписывая им текущие события: природный процесс догоняет историю и становится ее частью, и тогда боги спускаются с олимпийских высот и вплетаются в исторические сюжеты. Но даже у Гомера божественное вмешательство едва намечается, а боги бессильны перед судьбой, в которой заложен первофеномен, непреодолимый, как и логика, даже Творцом, который остается наблюдателем того мира, который Он создал и хочет рассмотреть, а не беспрерывно сотворять новые миры взамен созданного и развивающегося под Его присмотром.
Бог не занимается пустяками, но в то же время, ни один волос с головы не упадет без Его воли. Вот только воля уже была воплощена в момент времени «ноль» – по законам, созданным в этот момент, волос упадет или останется на месте. Богу нет надобности нарушать свои законы, но он может преодолевать законы человеческие и продлевать судьбу человека за пределами «мира сего». И в этом открытии – величайшая сила христианства, постигшего замысел Творца, так трудно воспринимаемый «казуалистами» современности, которым чудится постижимость и даже постигнутость всюду, куда направятся их близорукий взор.
Судьба приобретает завершенный вид за пределами этого мира – в Царствии «не от мира сего», вера в которое охватывает целые эпохи, но среди дурачья наших катастрофичных дней вызывает ухмылки всё постигших невежд.
Вихри становления
Порядок рождается из хаоса, который усмиряется в процессе становления повторяющихся закономерностей. Из хаоса теоретически можно вывести все, что угодно. Но в реальности из него кристаллизуется только то, что может хотя бы в некоторой степени обрести форму и сохранить закономерность. Поэтому хаос не совсем хаотичен. В нем заложен скрытый закон, не позволяющий твориться произволу. Произвол есть только в хаосе человеческих мыслей. Вселенная предлагает не произвол, а вероятности.
Неопределенность хаоса процессом становления вытеснена в микромир, в сильно неравновесные системы, где фазовые диаграммы могут повторять квантовый принцип неопределенности: невозможно определить с достаточной точностью либо координату системы, либо скорость ее изменения. Странные аттракторы как модель хаоса показывают, что в них могут соседствовать траектории, удаленные по времени на неопределенно длительное (актуально бесконечное) время. Минимальные отклонения от координаты – и вы прыгаете на миллиарды лет. Если в нашем мире достаточно хаоса, то в некоторых точках с сильной неравновесностью мы сможем «просверлить» отверстие в далекое будущее, где можем надеться найти неисчерпаемый источник энергии.
Шпенглер в термине «вихрь становления» интуитивно осмыслил стадию неравновесности и неопределенности в генезисе любого явления. Все рождается из неопределенности, где нет места расчетам, ибо возможное и невозможное еще не разделены, и возможное не заявило о себе в виде сотворенного. Выход из хаоса сопровождается либо творением, либо исчезновением. То и другое актуально беспричинно. Хотя, приближаясь к началам творения можно изыскивать все более тонкие закономерности стохастического характера.
Обыватель воспринимает беспричинность либо как судьбу, либо как чудо, либо как случайность. И все это, как будто, одно и то же. Но есть принципиальные различия, которые скрадываются по видимости незавершенным процессом становления. В каком-то смысле познание – это и есть движение к первопричине. Как только лежащие на поверхности законы познаны, мышление начинает стремиться к тому, что находится вне этих законов, и открывает новые законы.
Судьба таит в себе скрытую причинность и кажется неотвратимой, поскольку предполагает божественную природу и связь с изначальным – первопричиной всего. В действительности ничто в этом мире нельзя считать исчерпавшим процесс становления. Неизменное просто не может быть осознано: в нем нет никакого процесса. Это умершее явление. Поэтому чудо является оборотной стороной судьбы. Оно разрывает кажущуюся незыблемой причинность. И как раз оно-то и связана с изначальным хаосом, в котором божественная воля еще не сложилась и закон не оформился. Разрыв причинности – неизбежное следствие существования. Чудо свершается вопреки «железному закону». И, наконец, случайность – это сфера, которая не имеет связи с изначальным. Она не очерчена божественной волей, но не содержит и становления. Это непредусмотренное законом и непредвиденное в изначальном становлении. Может быть, это зародыш нового становления, прорыв иной Вселенной в нашу Вселенную.
Шпенглер, как и многие другие философы, цитирует высказывание Августина Блаженного, чтобы объяснить свое понимание судьбы: «Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio; fidenter tarnen dico, scire me» («Итак, что же такое время? Пока никто меня о том не спрашивает, я знаю; когда меня спросит кто-нибудь, и я хочу дать объяснение спросившему – не знаю. И все же с достоверностью утверждаю: знаю».) Кто находится в вихре становления, тот «знает». Но он не может объяснить тому, кто наблюдает со стороны. И наоборот: то, что видит в вихре становления сторонний наблюдатель, погруженный в вихрь, не сможет признать своей реальностью – у него другая реальность. И все это похоже на особенности двух сосуществующих реальностей для наблюдателя объекта, движущегося со субсветовой скоростью, и того, кто движется вместе с объектом (преобразования Лоренца в специальной теории относительности). Мы можем предположить, что свет всегда сопутствует становлению. Где все процессы завершены, там царит только мрак. Там где свет нестерпим для живого, в становлении преобладает хаос. Где хаос остыл, там из него выделились сложные процессы. Жизнь – это состояние между хаосом и мраком. От хаоса жизнь берет энергию изменения, а от мрака – структуру.
Провидец отличается от ученого прямым усмотрением истины, поскольку его взгляд ищет первофеномены, а не закономерности вещного мира, вращающегося у него перед глазами. Есть судьба и случай текущего момента, поверхностная событийность, а есть знание сверхъестественного – прозрение более близких к первозданному хаосу природных состояний и исторической правды размахом в столетия.
В вихре становления: я знаю, но не объясняю. По сути дела, это чувственное знание – усмотрение истины без формальных предпосылок. Подобные состояния бывают у великих ученых: сел – задумался – открыл. Этот карикатурный пассаж из советского кинематографа – ирония невежды. Но у того, что находится в вихре становления так и бывает: формула не выводится, а записывается. И она верна не потому, что доказана, а потому, что ее применение приводит к верным результатам. Таково, например, уравнение Шредингера. Так Менделеев открыл Периодическую систему элементов.
Субъектность предполагает свободу воли. И Шпенглер не прав, когда полагает, что древние греки видели только судьбу, но не замечали случай, который эту судьбу преодолевает. Скорее, это литературный прием – незыблемый рок и необоримая воля богов. Литература как раз закрывала брешь: слишком много в жизни древнего грека было случайным, подверженным превратностям судьбы. Он наталкивался не на предопределенность, а на случайность: потопы и землетрясения, эпидемии и войны. Несчастный или счастливый случай был доминантой жизни. Именно поэтому религия и литература напоминала о судьбе как о фундаментальной основе жизни. Если повседневность говорила греку, что все зависит от него лично, то жрецы и правители принуждали его уповать не на свои способности, а на данное от рождения предопределение. Помнить о нем полагалось обязательным: литератор, ученый, жрец, царь возвышались над хаосом (вихрем) повседневности и от имени богов диктовали свою волю, которая и становилась реальной судьбой народов и государств.
Восточный человек древности, напротив, был уверен, что все предопределено, и он ни в коем случае не может вырваться из рамок, поставленных судьбой. Именно по этой причине Христос стал для «евреев» (разнородных племен, скопившихся в Иерусалиме) образцом проявления «свободы воли»: человек может выбрать, прежде всего, жить или умирать. Если умирать, то за что умирать. Если жить, то ради чего жить. Восток оседлал вихрь становления и тем приблизился к древним грекам, которые сами сделали шаг навстречу судьбе. Родилась вселенская религия, где жертва – добровольное деяние, преодолевающая судьбу. Божья воля отдает случай в распоряжение человека, и он, получив «свободу воли», превращается в субъект становления, сотворца – его воля синхронизируется с волей Бога. Если же она асинхронна, то попущение Божие превращается в научение, а для жестоковыйных – в злосчастную судьбу.
Такт и ритм
Одно из ключевых понятий философии Шпенглера – «такт». Такт связывается с космическим, вневременным. Космос пульсирует периодическими процессами, которые задают режим существования всего, на что мог бы обратить взгляд человек. Но как только он обращает внимание на себя, он обнаруживает не столько такт (например, своего бьющегося сердца), сколько напряжение (своих мышц, своего ума).
Такт – это текущий процесс, его антипод – напряжение, в котором процесса еще нет, но есть готовность к нему. Сжатая пружина скопила потенциальную энергию, ее напряжение не реализовано. Но именно это и является ее главной сущностью. Боксер еще не нанес удар, но напряжение уже волной прокатывается по его телу, и он опасен этим потенциальным ударом.
Микрокосм, по Шпенглеру, определяется именно этим напряжением, в котором угадывается противопоставление. Напряжение не может быть безадресным. Существо ищет направления разрядки своего напряжения или даже заранее его предусматривает. Для космического такта не нужен повод, он сокрыт в самой природе вещей. Микрокосм преодолевает этот такт в напряжении, делает его своим союзником: напрягается при вдохе, разряжается при выдохе. В такте образуется еще и ритм, а за ним и мелодия. «Музыка» небесных сфер лишь отбивает реперные моменты времени; микрокосм человека «слышит» между реперами глубинную духовную сущность Вселенной. Через удары сердца космос напоминает о себе, о своем вечном и неизбывном присутствии. Человек заглушает удары сердца трепетом своей души, напряжением своей воли, мощными аккордами духовного творчества. И способен освободиться от космического, утверждая свою свободу. Ценой свободы является конечность существования.
Шпенглер пишет, что спящий человек подобен растению: он отдается космическому существованию. Но это не так. Во сне человек встречается со своей сущностью, которая в бодрствовании сокрыта личным напряжением. Но, помимо личного, есть еще и коллективное. Во сне оно приходит как бессознательное – со всеми своими напряжениями, которые рвут сердечный такт, преобразуют мозговые ритмы, стесняют дыхание. Тот же позыв есть в единодушном вздохе публики, в движении пришедшей в ярость толпы, в поступи слаженного воинского подразделения.
Частотный ритм частного существа может быть настроен на такт космоса, и тогда сущности сольются в единство, станут «оркестром», созвучным мирозданию.
Космос дает разрядку, раскрывая и одновременно завершая внутренний цикл микрокосма. Он придает напряжению цель и направленность, настраивает внутренний мир на внешнее «мы» и «вечность». «Микрокосмические границы оказываются снесенными. Здесь ревет и грозит, здесь рвется и ломится, здесь летит, поворачивает и раскачивается оно. Тела сливаются, все идут в ногу, один крик рвется из всех глоток, одна судьба ожидает всех. Из сложения маленьких единичных мирков внезапно рождается целое».
Стихия массы – это то же, о чем писал Салтыков-Щедрин в своей «Истории одного города», завершенной вихрем мистического Оно. Прорвавшийся в частную жизнь космос стирает все фантазии зарвавшихся жизнеустроителей, а с ними сметает и целые народы и цивилизации. Сильные чувства становятся социальной истиной, отбрасывая смутность частных ощущений, ставших переживанием несвободы в свободном напряжении внутреннего мира индивида. Общее переживается как свобода, представляя собой связанность с космическим тактом, добравшимся до глубин частного существа и втянувшим в свою закономерность массы свободолюбивых индивидуальностей. Общество, государство, нация оказываются следствием космической связанности, дающей рамки частным волениям, обеспечивая тем самым свободу, обрамленную границами обычая и закона. Именно поэтому цивилизации оседлы, а кочующие культуры поверхностны и дики. За возделанным полем начинается мир варварства, дикого существования свободных в движении, но порабощенных примитивным уровнем жизни и мысли, народов.
Великое переселение народов – это великое вторжение варварства в мир оседлой цивилизации. Массовые миграции – предвестник гибели, который либо превращается в приговор цивилизации, либо цивилизация выносит приговор мигрантам: угнетение, изгнание, ассимиляция. Выбор средств невелик, и все они кажутся «нецивилизованными», хотя только они и защищают цивилизацию от кочующих орд.
Потерянное время
Человеку кажется, что он властен над пространством – только потому, что способен перемещаться в нем. Но он не властен над временем. Прошлое не вернуть, а историю можно только оболгать, но нельзя изменить. Время необратимо, и мы хорошо знаем в повседневном опыте «стрелу времени». Разбившуюся вазу уже не восстановить. Можно только прокрутить в обратную сторону видеосъемку. И этот фокус забавляет, но не радует. Подспудно мы знаем об ограниченности своего личного времени и о своей ограниченной способности исследовать собственное время – предпосылки сегодняшнего момента. В природе мы предполагаем неизменный закон и ищем его в социуме. Среди людей общего закона нет. Есть только мудрость, чуткость, общие рекомендации жизненного опыта. И тонкие нюансы всегда ограждают все это от превращения в победный алгоритм. Как взять власть? Если бы алгоритм был известен, он был бы тут же разрушен, потому что претендентов на власть всегда много, и ни один из них не в состоянии завладеть универсальным средством возвышения над другими.
Шпенглеру очень хотелось увидеть время, проведя множество разграничений между античностью и более поздними временами. Ему казалось, что позы античных скульптур театральны, хотя все наоборот: это театральные позы заимствовали осанку древнегреческих и древнеримских скульптур. Ему хочется думать, что лики античных скульптур не несут в себе никакой индивидуальности, которая (будто бы) появляется только в эпоху эллинизма. Это совершенно не так, поскольку характерность лиц в греческих терракотах доходит до гротеска и карикатуры. Божеству же не может быть приписана никакая характерность, потому что ее никто не мог лицезреть. Разница между богами – только в атрибутах. Если же взглянуть на лица куросов, то все они различны – несут на себе признаки индивидуальности конкретных личностей. Нет, греки прекрасно понимали время, и греческая трагедия связана с необратимостью, непоправимостью ситуаций, заставляющих хор петь о том, что лучше бы вообще не родиться.
Логика становления, будто бы постижимая современным человеком, иллюзорна. Загадка жизни и смерти неизменно поражает воображение творческой личности с античных времен. Как считает Шпенглер, греки были привязаны к мгновению настоящего. Но тогда почему же они так хранили нелепости мифологических историй и включенные в них крупицы исторического знания? Почему образованному греку надо было учить «Илиаду» и «Одиссею» и знать почти наизусть, слушая вариации рапсодов сотни раз за свою жизнь? И почему современный человек, считающий себя образованным, не помнит вообще ничего? Почему русский не помнит ни строчки из «Евгения Онегина»? Почему немец знает о Гёте не больше русского? Избыток информации? Но у греков тоже была целая литература, которая утрачена – осталась только в случайно сохранившихся обрывках. Там тоже был избыток информации, но она распределялась на более важную и менее важную. А у современного человека вообще нет важной информации и почти нет ощущения разницы между правдой и ложью.
У греков было чувство истории и любовь к истории, а у современных людей его нет. Кроме занимательных анекдотов, прилипших к системе общего образования, современный человек не помнит и не знает практически ничего. И только необходимость получать средства к существованию побуждает его знать хоть что-то, но ни в коем случае ничего сверх того. Если Шпенглер мог этого еще не замечать, то теперь все это абсолютно очевидно. Человек начала XXI века деградировал настолько, что ему невозможно понять человека начала XX века. Точнее, это дано ничтожному меньшинству, которое сохранило человеческое достоинство – любопытство к феномену времени.
В чем Шпенглер точен, так это в том, что уже со Средних веков европеец старался закрепиться в истории, которую он пытался сделать автобиографией. Античные авторы не были столь заворожены перспективой оставить свой след. Поэтому мы сейчас точно не знаем, где Аполлодор, а где Псевдо-Аполлодор, где кончаются тексты Аристотеля, а где начинаются тексты его продолжателей. Точно так же для летописцев Руси была важна фиксация исторических событий, а не собственное авторство. Нестор – это собирательный образ. Все летописцы – «несторы».
У разных культур свое чувство времени, свое понимание истории. Шпенглер считает, что понимание невозможно. Но во всякой ли культуре есть время? Неизменность жизни не позволяет заметить течение истории. Античность знала историю и понимала невозможность овладеть временем. Именно поэтому Шпенглер замечает приверженность античных греков к текущему моменту. Западный человек возомнил себя способным «оседлать» время, зафиксировав лишь ускоряющиеся изменения в его жизни. Но средневековый человек был в такой же ситуации, как и античный грек. Жизненные катастрофы, связанные с войнами, эпидемиями и природными катаклизмами приучали ценить момент и помнить о смерти. Современный человек перестал считать себя уязвимым, но стал куда более труслив. Он не признает героев, потому что сам хочет быть героем, но без всякого риска – виртуальным сверхчеловеком. Он знает, что защищен врачами, но всю жизнь боится умереть. Античный или средневековый человек знал, что его повседневность неизменна, а смерть рядом. И смело смотрел смерти в глаза, прославляя героев и проявляя личный героизм. Современность тонет в «массовом героизме», из которого извлекают частные истории для плакатных персонажей и пропагандистских подделок. Фронтовик становится античным человеком – он не боится неизбежной смерти. Или боится, но принимает ее как факт, от которого некуда деться. А если не признает, то погибает одним из первых.
Шпенглер путает моду на руины, начавшуюся в XVIII веке, со страстью к истории – будто бы совершенно уникальной. Но древний грек жил в городах, где храмы стояли многие века, а современный человек живет в среде, из которой история изгнана. Античный грек был частью истории, продолжая ритуалы и правила жизни десятков поколений его предков, а современный человек толком не знает, чем жили его деды и бабки. И уже не признает истинными никакие ритуалы, и сторонится их, чтобы оставить время на то, чтобы упиваться текущими моментом – «здесь и сейчас». История стала наукой, а у греков она пронизывала повседневную жизнь. Грек знал свою историю; современный человек – при всех прелестях всеобщего образования – не знает ничего. Он отрекся от своей истории, оставив ее историкам. Он потерял свою культуру, оставив ее узкому кругу эстетов. Он погибает в своем человеческом статусе и превращается в придаток технологий, не разбирающих никаких индивидуальных отличий и рассчитанных на самые примитивные способности.
Несомненной ошибкой Шпенглера является сближение культа Исиды и Гора с христианским символизмом Богородицы и младенца Христа. А также противопоставление греко-римского культового символизма, который, будто бы, состоит только в фаллических и исключительно мужских акцентуациях. Нет сомнений, что Исида-Осирис имеют полный аналог в древнегреческом культе Семелы-Диониса. Это интерпретация одного и того же священного сюжета, восходящего к историческому событию, суть которого мы постигнуть не в состоянии. Греческий вариант сказания можно считать даже более драматическим, потому что в нем мать воскрешает сына, а в египетском сюжете – супруга.
Элладский период древнегреческой истории полон примитивных терракот с изображениями младенцев на руках у женщин с птицевидными головами. Этот культ простирается от Кипра до ареала трипольской культуры в степной зоне Восточной Европы, и вовсе не концентрировался в одном лишь Египте. Более того, птицеголовый Гор должен быть рожден от птицеголовой Исиды. Египетские скульптуры изображают Исиду и Гора людьми, а посмертный облик Гора (скульптурный или рельефный) – с головой сокола.
Возможно, Шпенглеру еще не были известны многочисленные вазописные сюжеты античного периода с матерью и младенцем. Сегодня они есть в любом музее с античными коллекциями.
Можно с уверенностью сказать, что никакого тысячелетнего провала в почитании матери с младенцем не существовало. И попытка связать этот выдуманный провал с кардинальным изменением отношения к истории (времени) оказывается несостоятельной. Напротив, древнегреческое искусство подтверждает, что от него исходят все культурные стандарты просвещенных народов Европы – архетипы европейского самосознания с древнейших времен. Налицо не разрыв, а прямое наследие, которое требует отношения к Древней Греции не как к этнографической диковинке, а как к собственной предыстории. Забывший древнегреческую историю и культуру европеец теряет всякую надежду продолжить свою цивилизацию.
Факт, идея, истина
Что есть истина? Этот вопрос Понтия Пилата, обращенный к Иисусу Христу загадочен, в нем тайна истории. Он мог содержать мучительное переживание бессмысленности собственного существования, интерес римского провинциала к очередному бродячему философу, насмешку над никчемными умствованиями, чванливую надменность распорядителя судеб человеческих. Нам не откроется глубина этого вопроса, если мы пренебрежем историей Рима Первого, вместившего в себя учение Христа, сделавшего христианство мировым явлением.
Шпенглер обращает внимание только на один вариант ответа. Философская истина – нечто оторванное от жизни и в этой жизни ставшее пустым звуком. Потому что истины вечны, а значит, мертвы. Мысль изреченная есть ложь. Животная природа человека признает только факты. И никакого «теоретического понимания». Пока божественная природа озадачивает человека, животная побуждает к действию, опережая всякую мысль. Животная природа опережает, и кажется, что тактическое преимущество и неоспоримо.
«Действительная жизнь, история знает лишь факты. Жизнь, опыт и знание людей направлены только на факты. Деятельный человек, человек действующий, болящий, борющийся, который изо дня в день обязан самоутверждаться перед властью фактов, ставить их себе на службу или им покоряться, смотрит на голые истины свысока, как на нечто незначительное. Для подлинного государственного деятеля есть лишь политические факты и никаких политических истин. Знаменитый вопрос Понтия Пилата – это вопрос всякого человека дела». То есть, Шпенглер видит в словах Пилата только надменную насмешку практика над теоретиком. Но даже если это так, то практик был посрамлен: «теоретик» оказался гораздо более практичным.
Стратегия решает свои задачи медленнее, но всегда одолевает факт, на который так бурно и непосредственно реагирует тактика. В то же время стратегическое мышление может впасть в иллюзию бодрствования, уподобляясь старым богам, удалившимся от человеческих проблем. Истина может замкнуться сама на себя и забыть о человеке. Тогда человек дела получает бесспорное преимущество, а «чистая истина» оказывается бесплодной – гипертрофированной функцией обезумевшего рассудка.
На эту болезнь разума указывает Шпенглер, ссылаясь на Ницше: побеждающий дух уничтожает жизнь, в нем все цепенеет, замирая в непреложных истинах. Барьером для отделения духа от плоти являются идеи. Идеи «принадлежат непосредственной живой самости того, кто их создает, и могут лишь соощущаться». В идеи надо верить, точнее, сочувствовать им. Идеи не доказываются, они захватывают, предлагая неполные схемы решения проблем, чуткие к изменениям и содержащие алгоритмы исключения собственных ошибок.