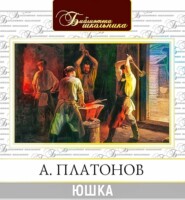По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Котлован
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! – сказал Чиклин. – Кашляет, вздыхает, молчит, горюет! – так могилы роют, а не дома.
Но Козлов не уважал чужой жалости к себе – он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связный грунт. Он ещё верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам – его сердце затруднялось биться, но всё же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шёпотом терпеть.
Уже прошёл полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принёс в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.
Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.
Инженер обошёл своим ежедневным обходом разные непременные учреждения и явился на котлован. Он постоял в стороне, пока люди съели всё из котла, и тогда сказал:
– В понедельник будут ещё сорок человек. А сегодня суббота: вам уже пора кончать.
– Как так кончать? – спросил Чиклин. – Мы ещё куб или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.
– А надо кончать, – возразил производитель работ. – Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон[3 - Кодекс законов о труде СССР запрещал сверхурочные работы. Однако из-за высоких темпов производства в годы первой пятилетки этот закон не соблюдался, поэтому в 1930 году было введено новое постановление Народного комиссариата труда СССР «О недопустимости удлинения рабочего дня и неиспользовании выходных дней». На него и ссылается Прушевский. (Прим. ред.)].
Строители Магнитогорского комбината роют котлован для доменной печи. Макс Альперт, 1930 г. Архив РИА Новости
– Тот закон для одних усталых элементов, – воспрепятствовал Чиклин, – а у меня ещё малость силы осталось до сна. Кто как думает? – спросил он у всех.
– До вечера долго, – сообщил Сафронов, – чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.
– Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, – сказал Вощев.
– И то! – произнёс неизвестно кто из мастеровых.
Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.
– Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнёзда посчитаю опять.
– А то что ж: ступай почерти и посчитай! – согласился Чиклин. – Всё равно земля вскопана, кругом скучно – отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнём.
Производитель работ медленно отошёл. Он вспомнил своё детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприютная вода, и он, мальчик, не знал, куда ему деться, и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей России теперь моют полы под праздник социализма, – наслаждаться как-то ещё рано и ни к чему; лучше сесть, задуматься и чертить части будущего дома.
Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился.
– Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят, – сообщил Козлов. – Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрёте на порожней земле.
– Козлов, ты скот! – определил Сафронов. – На что тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься?
– Пускай радуюсь! – ответил Козлов. – А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм помрёт, теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно!
Вощев заволновался от дружбы к Козлову.
– Грусть – это ничего, товарищ Козлов, – сказал он, – это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье всё равно далёкое дело… От счастья только стыд начнётся!
В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на работу. Ещё высоко было солнце, и жалобно пели птицы в освещённом воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склонёнными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды – они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту; а когда её Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтожении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нём будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи птицам.
Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнится вновь.
Истомлённый Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк; он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей тёплой силы в камень, который он рассекал, – камень нагревался, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:
– Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрёте, и кто тогда будет людьми?
Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер: вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и – точно грусть – стояла мёртвая высота над землёй. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.
* * *
Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертёжной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь щели тёса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошёл к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и всё тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжёлую тёмную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слёзы от сновидения или неизвестной тоски.
Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мёртвого строительного материала и усталых, недумающих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займёт для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли[4 - Идея строительства домов для советских рабочих развилась в идею строительства «городов будущего». Так, например, в 1928 году Георгий Крутиков разработал проект «Летающего города»: его жилая часть должна была парить в воздухе, а производственная – находиться на земле. Город, в который Вощев приходит работать, тоже похож на «город будущего» – Вавилон, куда войдут «на вечное, счастливое поселение» рабочие старого города. (Прим. ред.)].
Летающий город. Г. Крутиков, 1928 г.
Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнёт биться сердце и думать ум?
Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населён людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания – те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.
Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине; под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из неё, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала даёт добавочным продуктом душу в человека? А если производство улучшить до точной экономии – то будут ли происходить из него косвенные, нежданные продукты?
Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто тёмная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто, – вся насущная наука расположена ещё до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но всё же интересно было – не вылез ли кто-нибудь за стену вперёд. Прушевский ещё раз подошёл к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нём что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.
После полуночи Прушевский пришёл на свою квартиру – флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шёл и пел свою песню; то был, наверно, счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать.
Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на неё сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался:
– Либо мне погибнуть?
Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до ещё далёкой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение, и где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придётся лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребёнка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мёртвому, разрушенному брату.
– Лучше я умру, – подумал Прушевский. – Мною пользуются, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре, надо купить марку с утра.
И решив скончаться, он лёг в кровать и заснул со счастьем равнодушия к жизни. Не успев ещё почувствовать всего счастья, он от него проснулся в три часа пополуночи, и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окружённый близкими яблонями, до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов.
После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришёл посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал один только Козлов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела – не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти всё знал или предвидел.
«Ну, что ж, – говорил он обычно во время трудности, – всё равно счастье наступит исторически». И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать.
Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству[5 - 6 сентября 1929 года в газете «Правда» было опубликовано письмо Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов «За поворот профсоюзов лицом к производству. За решительную перестройку форм и методов работы профсоюзов. Ко всем профорганизациям, ко всем членам профсоюзов, ко всем работникам и работницам». Лозунг «лицом к производству» стал одним из самых распространённых в годы первой пятилетки. В повести поворот «лицом к производству» председатель окрпрофсовета Пашкин понимает прежде всего как поворот «лицом к земле». Вощев же считает, что без истины невозможно увеличить темпы труда и повернуться «лицом к производству»: «У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу…» Именно поэтому герой сам пытается найти её. (Прим. ред.)].
Плакат «Профсоюзы, лицом к производству. Ближе к массам». Автор неизвестен, 1930 г.
– Темп тих, – произнёс он мастеровым. – Зачем вы жалеете подымать производительность? Социализм обойдётся и без вас, а вы без него проживёте зря и помрёте.
– Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся, – сказал Козлов.
– Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!
Стеснённые упрёком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек – скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрёшь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома её можно организовать впрок для будущего неподвижного счастья и для детства.