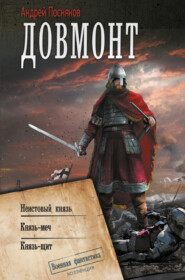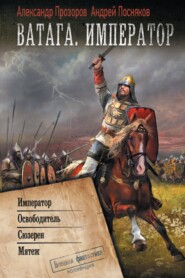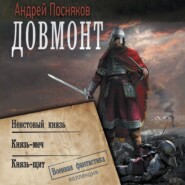По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Боярин: Смоленская рать. Посланец. Западный улус
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сотрапезник мне его не нравится. Больно на татя похож!
Павел снова оглянулся, внимательно всматриваясь в сидевшего рядом с рыжим изгоем парня. Невысокого росточка, чернявый и весь какой-то дерганый, он что-то негромко говорил, то и дело подливая в Охряткину кружку из стоявшего на столе кувшина. Что они там пили? Вряд ли вино – уж больно шикарно, скорее, просто бражицу или хмельной квас.
– Л-а-адно, – зевнув, Павел поднялся на ноги. – Пойду-ка спать. А насчет этого чернявого завтра у Охрятки спросим.
Завтра не спросили – забыли, да и не до того было: утро началось с суеты – торговцы спешно запрягали возы, накрывали товары рогожками, суетились. Сам Тихон Полочанин, накинув на плечи овчинку, деловито отдавал указания приказчикам:
– С квасцами воз первым ставь… за ним – оружный, посудный, тканевый…
– Ну, а нам куда приткнуться, купец? – погладив кольчужку, осведомился Ремезов.
С утра уже все его люди были окольчужены и оружны, выйдя за ворота, чтоб не мешать собираться торговцам, держали наготове коней.
– Троих молодцов вперед пусти на пять перестрелов, да столько же – на три перестрела – сзади, – без раздумий отозвался Тихон. – Основная же дружина – рядом, здесь, сам тож с ними.
– Согласен, – кивнул головой молодой человек. – Митоха, распорядись-ка.
Собравшись, двинулись наконец-то в путь. Солнце едва только взошло, золотило лучами ели, по синему небу плыли реденькие белые облака, под копытами коней да полозьями санными, поскрипывая, искрился снежок. Ехали быстро – купец хотел поспеть до ночи к полоцким землям, там, на границе, и заночевать – место давно уж было присмотрено, не одним только Тихоном, но и другими. Потому – подгоняли лошадей, не жалели, а полозья саней загодя смазали салом. Тоненьким-тоненьким слоем – зато и катили сани легко, словно б на крыльях летели. Но и зверье позади обоза приманивалось на сальный запах – лисы, одичавшие псы, волки.
– Боярин, людям своим накажи, пусть постреливают, да стрел не жалеют, – обернулся в передних санях купец. – Ничо, зверюг сих мы отвадим… лишь бы двуногие не набежали… ха-ха! Что это у тебя за узорочье? На крыж немецкий похоже.
– Где? – поправив шапку, Павел скосил глаза. – Да где же?
– Вон, позади, к плащу прицепился.
Ремезов сунул за спину руку, нащупал… Ну, точно – крест! Небольшой, но и не маленький – с ладонь, золотой! Хотя… Нет – медный, просто начищенный до золотого блеска. На крючочке подвешен… в сутолоке случайно за плащ зацепился. Или – в опочивальне в людской… Народу много, может, и обознался кто – зацепил. Да нет, скорее – случайно.
– Случайно – не случайно, кто сейчас может сказать? – торговец покачал головою. – Убрал бы ты его с глаз подале, боярин! Сунул бы в переметную суму.
Молодой человек пожал плечами, да так и сделал – отцепил от плаща крест да сунул в мешок. Можно было б и выкинуть – не так уж и ценна вещица – а все же жаль стало. Медь здесь тоже – ценность, чего зря разбрасываться? Весит мало, суму не жжет. Убрал с глаз долой – да и забыл надолго.
Убрав крест, Ремезов, однако же, ухмыльнулся: а купец-то, купец! Все примечает, даже самую мелочь, хотя, казалось бы – какое дело ему?
Ехали быстро, храпели кони, поскрипывал под полозьями снег. Остался позади славный Смоленск-град, ладный, выстроенный из тонкого кирпича – плинфы – собор Борисоглебского монастыря, выстроенный на месте предполагаемого убийства княжича Глеба Святополком Окаянным. Вскоре, за излучиной, пропал и высокий силуэт храма Троицкой монашьей обители, оттянулись пустынные берега, кое-где перебиваемые темными скоплениями изб – селами, деревнями, хуторами.
Уже ближе к вечеру, на крутой излучине, где батюшка Днепр поворачивал круто к югу, остановились на общий молебен – дальше дорожка шла лесом да взбиралась на холм, с вершины которого открывались уже полоцкие земли.
Там и заночевали – свернули к обустроенному роднику, где уже распалили костры и иные гости.
Павел поначалу насторожился было, хотел крикнуть своим, чтоб держались с осторожностью – мало ли кто здесь гужуется, костры жжет? Может…
– Не надо ничего делать, боярин, – со смехом махнул рукой Тихон-купец. – То свои, знакомые. Не разбойники и не тати лесные… Эй, эй! – спрыгнув с саней, торговец замахал рукою. – Здоровеньким будь, Василий, друже.
Какой-то высокого роста мужик, с окладистой бородой и в богатой шубе, поднялся, зашагал, распахнув объятья, навстречу:
– И ты будь здрав, Тихон! Куда собрался? Опять в Менск да в Берестье?
– Туда, друже. А ты?
Купцы обнялись, а вот уже, распрягая коней, принялись обниматься-смеяться и менеджмент среднего звена – приказчики, и служки, – многие были промеж собою знакомы, кто-то кого-то расспрашивал, кто-то громко хохотал, а кое-кто угощал всех медом.
Прибывшие тоже разложили костры, принялись варить кашу да жарить на углях рябчиков, весьма кстати подстреленных по пути воинами молодого боярина Павла.
Боярин – так вот, уважительно, все к нему и обращались – начиная с самого главного гостя-купца. Хотя на самом-то деле все хорошо понимали: ну, разве ж истинный-то боярин, именитый вотчинник, наймется торговый караван охранять? Нет, конечно же… Боярин не наймется, а вот бедный да оголодавший «вольный слуга» – другое дело. В смутные времена совсем уж впавшие в нищету мелкие феодалы – «вольные слуги», «слуги под дворскими», своеземцы – даже в холопство податься не брезговали – все лучше, чем с голоду помирать. Таких вот феодальчиков-«слуг» чуть позже дворянами прозовут да детьми боярскими. Так вот и Павел – как д’Артаньян – кроме шпаги, по сути-то, и нет ничего. Впрочем, у Ремезова-то, как ни крути – а все же три деревеньки! Конечно, не бог весть что, но все-таки. И Заболотица-то – не никем-то жалована, его, Павла, отцом Петром Ремезом данная – вотчина! Значит, все же – боярин… пусть ма-аленький такой, мелкий…
– Господине, где велишь шатры распахнуть? – отвлек от дум подбежавший Митоха.
– А где б ты сам-то поставил?
Наемник довольно скосил глаза – слышал ли кто, как сам боярин – пусть даже и очень молодой еще по возрасту – у него совета спрашивал? Слышали, слышали – и «дубинушка» Неждан, и Гаврила-десятник, и всегда веселый и жизнерадостный Окулко-кат. Даже неловко этакого весельчака палачом звать… ну так, а как же? Профессия, ее-то куда денешь?
Надо сказать, Окулко пользы в пути приносил изрядно – и уставшего подбодрит, и шутку-прибаутку к месту скажет, и на гуслях сыграет, и песню споет. Вот и сейчас, едва дожидался, когда обустроятся да посты выставят. Впрочем, с постов и начать:
– Гаврила, двух своих парней – вон к той елке, ты, Неждан – парочку к тому бережку отправь, чтоб издалека поглядывали.
– Могу спросить, господине? – подал голос Митоха.
– Спроси… Только если – сколько на небе звезд, так знай – не отвечу!
Весело сказанул боярин, пошутил – и люди его, рядом бывшие, от души посмеялись. Вообще, смешливый жил в ту эпоху народец, палец покажи – обхохочется. Вот и сейчас…
– Ты, Митоня, еще про луну спроси!
Наемник, скривившись, сплюнул в снег:
– От зубоскальцы!
– Так ты чего спросить-то хотел? – напомнил Павел.
– Про людей, – рязанец враз обрел всю серьезность. – Ты их, батюшко-боярин, по двое в караул посылаешь. А лучше б по одному было – и не болтали бы, и больше б людей отдохнуло.
– Так-то оно так, – отводя наемника в сторонку, негромко промолвил Ремезов. – Да только ты на воинов моих посмотри. Сколько им годков-то? Пятнадцать, шестнадцать… кому и того нету. Дети ведь еще почти.
Митоха согласно кивнул:
– Инда так, дети.
– Так чего ж мне их поодиночке в ночь ставить? Вдвоем-то надежнее… и веселее.
– Да уж… Во многом ты прав, боярин! – рязанец заломил шапку. – Так как же шатры-то ставить?
– Ставь, как сам думаешь – лучше.
– Думаю – ближе к реке.
– Ставь к реке, ладно.
Павел отправился спать рано, как и все – в те времена и вообще-то по утрам не залеживались, а уж купцам-то в дороге и сам Бог велел подниматься пораньше. Укрылся в шатре волчьей шкурой – хорошо, тепло, жарко даже – да тут же и уснул, слушая, как припозднившиеся у дальнего костерка приказчики тянули негромкую песню.