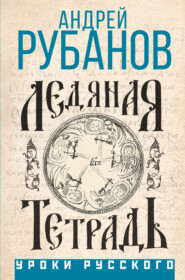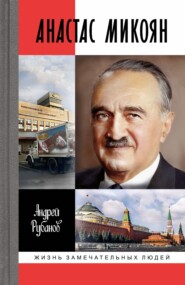По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жёстко и угрюмо
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он хочет быть крутым. Острым, ярким. Преступным.
– Вот! Вот! Вы нашли друг друга! Вы договоритесь. Вы сделаете бешеную картину. Главное, чтоб она была зрительская. Внятная. Тарковский был хорош, но его идеи убили русский прокатный кинематограф! Никакой тарковщины! Никакого искусства из головы! Только отсюда! – Семён ударил себя в ключицу. – Из сердца, из нервов!
– Мне показалось, этот Ржанский… как раз из головы работает…
– Работал, – поправил Семён. – Пока тебя не нашёл. Теперь вы сделаете настоящее кино. Из позвоночного столба. Из собственной природы. Убеди его в этом. Зарази.
– Тогда, – сказал я, – ты пойдёшь со мной.
– Как скажешь, – ответил друг. – Я тебя люблю. Я не оставлю тебя ни в горе, ни в радости.
Ах, как была тогда нам нужна эта победа.
Ах, как вовремя нас посетила эта благодать.
Пьяные, счастливые, дурные, плохо постриженные, мы стояли на балконе, мы смотрели в жёлтые окна, мы вдыхали кислый воздух большого города. Мы хохотали.
Мы знали всё про всё. Нам сравнялось по тридцать пять. Мы были богатыми и бедными, преданными и проданными, битыми и клятыми, женатыми и разведёнными, спившимися и завязавшими, арестованными и освобождёнными, вонючими и благоуханными. Олигархи доверяли нам миллиарды, а собственные жёны боялись доверить собственных детей. Мы понятия не имели о том, кто мы такие. Мир пытался, но не мог нас идентифицировать. Мерзавцы – или герои? Авантюристы – или подвижники? И вот одному из нас удалось положить на бумагу наши рефлексии, нашу ярость и любовь.
Я не совершил подвига, я не родил новую формулу, я не пересёк океан и не открыл Америку.
Но я нашёл слова.
Спустя несколько дней Ржанский позвонил.
– Я сейчас в Каннах, – сообщил он сквозь атмосферные шорохи трёх тысяч километров. – Вернусь, и поговорим у меня в офисе, ага?
– Ага, – ответил я.
Естественно, он находился в Каннах, а где ещё, глупо удивляться. Естественно, у него был свой офис; естественно, на территории концерна «Мосфильм».
– Да хоть в Кремле, – сказал Семён, когда я сообщил о звонке из мира грёз. – Не менжуйся. Через десять лет у тебя тоже будет офис на «Мосфильме». А может, и в Голливуде.
Я в те дни много пил, жена не доверяла мне машину; мы двинули на рандеву пешком.
– Только на своих двоих, – авторитетно научил Семён. – Ты писатель, следовательно – голодранец. Заодно и прогреем мозги, по пути к славе.
От метро «Киевская» – полчаса быстрым шагом, вдоль сурового гранитного парапета набережной Москвы-реки. Но прославленные литераторы, чьи опусы экранизируют ещё более прославленные кинодеятели, не ходят быстрым шагом. Успех неоспорим, очевиден. То есть – мы уже успели, не опоздали; спешить было некуда. Без нас не начнут и не закончат.
Оснащённые великолепно скользкой бутылью молдавского коньяка, мы двигались естественным темпом естественно хмельных мужчин, безусловно доказавших планете свою стопудовую естественность. Узкая посудина 0.75 удобно помещалась в кармане пиджака. Пока шли – прикончили и выбросили в реку: чёрные волны унесли стеклянную дуру в прошлое, а мы шагали в будущее.
Территория концерна «Мосфильм» была необъятна и практически безлюдна, газоны заросли лебедой по колено; с трудом мы отыскали нужное здание и нужный этаж, и, пока шли вдоль ряда облезлых дверей, Семён усмехался бесшумно.
У меня тоже был свой офис; и у Семёна был; мы тоже «делали дела», пусть не в сфере кино, пусть без визитов в Канны – но это ничего не меняло.
Режиссёр Ржанский оказался молодым, статуарным, ухмыльчивым блондином. Эстетский шарф обнимал его бледную питерскую шею.
Курил одну сигарету за другой. На пачке светилась надпись «курение убивает» на чистом французском языке. Бросив пачку на исцарапанный стол, гений следом бросил и конверт с деньгами. Жест мне понравился: не все знают, что передавать деньги из пальцев в пальцы – дурная примета.
Положи на стол, убери руку.
А нет стола – так и не пытайся строить из себя делового.
Помимо гения, в комнате находились ещё несколько мужчин и женщин; все элегантные, умно прищуренные. Одна из женщин шустро поместила рядом с конвертом официальную, в двух экземплярах, бумагу.
Я подписал, не читая. Сложил вчетверо, сунул в задний карман.
Семён цинично мне подмигнул. За пятнадцать лет практики в русском бизнесе мы с ним составили, может быть, тысячу всевозможных договоров и контрактов. Мы ненавидели юридические бумажки лютой ненавистью. Мы полагали основным элементом любого контракта рукопожатие.
Возможно, я подписал соглашение о продаже души дьяволу. Возможно, дьявол тоже был кинорежиссёр.
Мы сели. Стулья под нашими костлявыми задами заскрипели. Питерский гений посмотрел с беспокойством.
– Эта книга… – произнёс он, изящно протерев очки краем шарфа. – Вы что, писали её вдвоём?
– Он писал, – ответил Семён, кивнув на меня.
– А он – помогал морально, – добавил я, кивнув на Семёна. – Вам понравилась книга?
– Трудно сказать, – веско процедил гений. – Не мой материал.
– То есть, вы не будете это снимать?
– Конечно, нет. Но права куплю. Может, перепродать получится.
– Хотите заработать?
– Да, – лаконично ответствовал Ржанский.
– Великолепно, – вступил Семён, пока я засовывал конверт в тот же карман, где полчаса назад покоилась бутыль. – Я вас понимаю. Кино должно себя окупать. Нужен разворот в сторону зрителя. Тарковщина губит наш кинематограф.
– Тарковщина? – переспросил Ржанский.
Все присутствующие в комнате бросили свои дела и обратили взгляды на двоих визитёров – пьяных, оскалившихся дилетантскими улыбками.
– Именно, – сказал Семён ледяным тоном. – Безответственная погоня за эстетикой. Картинка ради картинки! Философия ради философии! Зритель желает внятных историй. Первый акт… Второй… Далее, сами понимаете, третий… Ясные мотивировки… Внятность и конкретность…
– Вы работаете в кино? – осведомился Ржанский.
– И в кино тоже.
– Мой друг окончил ВГИК, – пояснил я.
– Ага, – печально произнёс Ржанский. – Я знал, что там теперь двигают зрительское кино. К этому всё шло.
Все присутствующие осклабились. Гений щёлкнул зажигалкой.
– Ещё как двигают, – ответил Семён. – Пора учиться делать чистый энтертейнмент. Зритель всегда прав. Он голосует кошельком.
– Вот! Вот! Вы нашли друг друга! Вы договоритесь. Вы сделаете бешеную картину. Главное, чтоб она была зрительская. Внятная. Тарковский был хорош, но его идеи убили русский прокатный кинематограф! Никакой тарковщины! Никакого искусства из головы! Только отсюда! – Семён ударил себя в ключицу. – Из сердца, из нервов!
– Мне показалось, этот Ржанский… как раз из головы работает…
– Работал, – поправил Семён. – Пока тебя не нашёл. Теперь вы сделаете настоящее кино. Из позвоночного столба. Из собственной природы. Убеди его в этом. Зарази.
– Тогда, – сказал я, – ты пойдёшь со мной.
– Как скажешь, – ответил друг. – Я тебя люблю. Я не оставлю тебя ни в горе, ни в радости.
Ах, как была тогда нам нужна эта победа.
Ах, как вовремя нас посетила эта благодать.
Пьяные, счастливые, дурные, плохо постриженные, мы стояли на балконе, мы смотрели в жёлтые окна, мы вдыхали кислый воздух большого города. Мы хохотали.
Мы знали всё про всё. Нам сравнялось по тридцать пять. Мы были богатыми и бедными, преданными и проданными, битыми и клятыми, женатыми и разведёнными, спившимися и завязавшими, арестованными и освобождёнными, вонючими и благоуханными. Олигархи доверяли нам миллиарды, а собственные жёны боялись доверить собственных детей. Мы понятия не имели о том, кто мы такие. Мир пытался, но не мог нас идентифицировать. Мерзавцы – или герои? Авантюристы – или подвижники? И вот одному из нас удалось положить на бумагу наши рефлексии, нашу ярость и любовь.
Я не совершил подвига, я не родил новую формулу, я не пересёк океан и не открыл Америку.
Но я нашёл слова.
Спустя несколько дней Ржанский позвонил.
– Я сейчас в Каннах, – сообщил он сквозь атмосферные шорохи трёх тысяч километров. – Вернусь, и поговорим у меня в офисе, ага?
– Ага, – ответил я.
Естественно, он находился в Каннах, а где ещё, глупо удивляться. Естественно, у него был свой офис; естественно, на территории концерна «Мосфильм».
– Да хоть в Кремле, – сказал Семён, когда я сообщил о звонке из мира грёз. – Не менжуйся. Через десять лет у тебя тоже будет офис на «Мосфильме». А может, и в Голливуде.
Я в те дни много пил, жена не доверяла мне машину; мы двинули на рандеву пешком.
– Только на своих двоих, – авторитетно научил Семён. – Ты писатель, следовательно – голодранец. Заодно и прогреем мозги, по пути к славе.
От метро «Киевская» – полчаса быстрым шагом, вдоль сурового гранитного парапета набережной Москвы-реки. Но прославленные литераторы, чьи опусы экранизируют ещё более прославленные кинодеятели, не ходят быстрым шагом. Успех неоспорим, очевиден. То есть – мы уже успели, не опоздали; спешить было некуда. Без нас не начнут и не закончат.
Оснащённые великолепно скользкой бутылью молдавского коньяка, мы двигались естественным темпом естественно хмельных мужчин, безусловно доказавших планете свою стопудовую естественность. Узкая посудина 0.75 удобно помещалась в кармане пиджака. Пока шли – прикончили и выбросили в реку: чёрные волны унесли стеклянную дуру в прошлое, а мы шагали в будущее.
Территория концерна «Мосфильм» была необъятна и практически безлюдна, газоны заросли лебедой по колено; с трудом мы отыскали нужное здание и нужный этаж, и, пока шли вдоль ряда облезлых дверей, Семён усмехался бесшумно.
У меня тоже был свой офис; и у Семёна был; мы тоже «делали дела», пусть не в сфере кино, пусть без визитов в Канны – но это ничего не меняло.
Режиссёр Ржанский оказался молодым, статуарным, ухмыльчивым блондином. Эстетский шарф обнимал его бледную питерскую шею.
Курил одну сигарету за другой. На пачке светилась надпись «курение убивает» на чистом французском языке. Бросив пачку на исцарапанный стол, гений следом бросил и конверт с деньгами. Жест мне понравился: не все знают, что передавать деньги из пальцев в пальцы – дурная примета.
Положи на стол, убери руку.
А нет стола – так и не пытайся строить из себя делового.
Помимо гения, в комнате находились ещё несколько мужчин и женщин; все элегантные, умно прищуренные. Одна из женщин шустро поместила рядом с конвертом официальную, в двух экземплярах, бумагу.
Я подписал, не читая. Сложил вчетверо, сунул в задний карман.
Семён цинично мне подмигнул. За пятнадцать лет практики в русском бизнесе мы с ним составили, может быть, тысячу всевозможных договоров и контрактов. Мы ненавидели юридические бумажки лютой ненавистью. Мы полагали основным элементом любого контракта рукопожатие.
Возможно, я подписал соглашение о продаже души дьяволу. Возможно, дьявол тоже был кинорежиссёр.
Мы сели. Стулья под нашими костлявыми задами заскрипели. Питерский гений посмотрел с беспокойством.
– Эта книга… – произнёс он, изящно протерев очки краем шарфа. – Вы что, писали её вдвоём?
– Он писал, – ответил Семён, кивнув на меня.
– А он – помогал морально, – добавил я, кивнув на Семёна. – Вам понравилась книга?
– Трудно сказать, – веско процедил гений. – Не мой материал.
– То есть, вы не будете это снимать?
– Конечно, нет. Но права куплю. Может, перепродать получится.
– Хотите заработать?
– Да, – лаконично ответствовал Ржанский.
– Великолепно, – вступил Семён, пока я засовывал конверт в тот же карман, где полчаса назад покоилась бутыль. – Я вас понимаю. Кино должно себя окупать. Нужен разворот в сторону зрителя. Тарковщина губит наш кинематограф.
– Тарковщина? – переспросил Ржанский.
Все присутствующие в комнате бросили свои дела и обратили взгляды на двоих визитёров – пьяных, оскалившихся дилетантскими улыбками.
– Именно, – сказал Семён ледяным тоном. – Безответственная погоня за эстетикой. Картинка ради картинки! Философия ради философии! Зритель желает внятных историй. Первый акт… Второй… Далее, сами понимаете, третий… Ясные мотивировки… Внятность и конкретность…
– Вы работаете в кино? – осведомился Ржанский.
– И в кино тоже.
– Мой друг окончил ВГИК, – пояснил я.
– Ага, – печально произнёс Ржанский. – Я знал, что там теперь двигают зрительское кино. К этому всё шло.
Все присутствующие осклабились. Гений щёлкнул зажигалкой.
– Ещё как двигают, – ответил Семён. – Пора учиться делать чистый энтертейнмент. Зритель всегда прав. Он голосует кошельком.