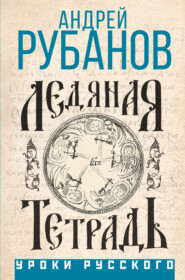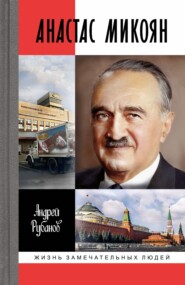По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жёстко и угрюмо
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жена – сквозь болезненный туман, тихим голосом – посмеивалась. Хотя, если бы не беременность и не болезнь, – сорвалась бы со мной, бросив все дела. Моложе меня на двенадцать лет, она принадлежала к резкому и циничному поколению «детей перестройки», школу закончила кое-как, зато государственный институт кинематографии – с отличием, и объездила половину мира ещё до того, как ей исполнилось двадцать пять. За то время, пока я её знал – семнадцать месяцев, – она прокатилась в Израиль, Италию, в Осло, в Стокгольм и в село Великовечное Краснодарского края.
Я это в ней уважал. Сам я в мои двадцать пять путешествовал только по ближнему Подмосковью, только в машине с тонированными стеклами и только имея при себе бейсбольную биту.
А она никогда ничего не боялась, свободно говорила по-английски, приезжала в Гамбург или в Дахаб и тут же обзаводилась местными приятелями, и новый мир изучала через людей этого мира. Мои поездки были вылазками, хаджами, её поездки – идеальным развлечением, отжигом, она не путешествовала – она трипповала.
Теперь я собирал и разбирал сумку, суетился, напрягался: брать или не брать нож, брать или не брать батарейки, – а она советовала: «Ничего не бери, так интереснее».
В день отъезда я был почти невменяем. Голова кружилась, бросало в пот. Но болеть было нельзя. Вечером приехал домой, помыкался меж надоевших стен – и решил, что отправной точкой следует назначить не мою квартиру, а квартиру жены. У себя дома можно расслабиться и проспать. Кто разбудит вояжёра в четыре утра?
Решил поехать в дом жены и вообще не ложиться.
В 22:00 вошёл в её квартиру, ещё раз проверил сумку и завис.
Делать было нечего. Читать не хотелось. Телевизор отсутствовал.
Вдруг подумал, что впервые провожу здесь одинокую ночь. И что мы всего только год вместе – а кажется, что полжизни.
Март получился в этом году злой и безжалостный: то льдом закуёт, то бесовскими ветрами просвищет, московская климатическая свистопляска, невозможно соскучиться; на третий день весны я купил себе меховые перчатки. Мне нравится всё злое и безжалостное.
Но квартира жены встретила теплом и тишиной.
В прошлом марте я приходил сюда ещё в сомнительном статусе секс-товарища, бойфренда с ограниченной ответственностью. Убегал около часа ночи. Утром надо было будить сына, отправлять в школу; шестнадцатилетний малый легко просыпался самостоятельно, без понуканий, но отец очень желал оттянуть момент окончательного разрыва. Старая семья давно рухнула, мать сына три года жила в Италии, мне было рекомендовано убираться на все четыре стороны; однако Италия далеко, а сын – вот, рядом; хотелось ещё месяц, ещё два месяца побыть настоящим отцом, который подливает чай в чашку, и желает удачи, и закрывает дверь, и наблюдает в окно, как бредёт в нелюбимую школу, отягощённый портфелем, его великовозрастный первенец.
Но наступал вечер, а вечером шестнадцатилетнему мальчишке отец не нужен – и тогда отец ехал туда, где он нужен.
В её доме сложно и приятно пахло мёдом, орехами, масляными красками. Каждый сантиметр пространства был прихотливо организован. Четыре десятка отборных книг. Два десятка виниловых пластинок. Абсолютно ничего лишнего. Диски с фильмами непрерывно уменьшались числом: хозяйка хаты как раз находилась в процессе замены устаревших носителей на новые, переписывала громадную фильмотеку на флешки. Объясняла, что есть два подхода к кинематографу: в первом случае зритель приходит в зал, садится среди других таких же зрителей и на протяжении двух часов переживает коллективные эмоции, погружённый в особую действительность; во втором случае тот же самый зритель гораздо более свободен, его не понуждают сидеть без движения, его внимание не удерживают «драматическими перипетиями» и прочими ловкими, но простыми трюками; такой зритель – более свободный и продвинутый – смотрит кино на экране любого размера, посредством компьютера или даже телефона, он может начать просмотр дома и закончить в машине или в метро; оба подхода одинаково хороши и имеют право на существование.
Гость слушал, отхлёбывая зелёный чай: она не пила ничего, кроме зелёного чая и сухого белого вина; не курила, не ела мяса и шоколада, не признавала другой воды, кроме родниковой, и каждый вечер ей звонили приятели из Чехии и республики Гана; она не покупала глянцевую периодику и не мечтала выйти замуж за перспективного углеводородного менеджера с непременной регистрацией брака в Лас-Вегасе, штат Невада; она была чрезвычайно крутая богемная девчонка.
Гость слушал, наслаждался, любовался. Возбуждало не то, что ее дебютный фильм назывался «Юнгфрау», а то, что она сама была юнгфрау, то есть – молодая девушка.
Свободное, весёлое, сильное существо жило свободно, сильно и весело среди собственноручно написанных живописных полотен и собственноручно сделанных фотографий, среди коллекций камней, собственноручно подобранных на горе Синай и возле египетских пирамид; среди книг, собственноручно написанных её отцом-писателем и её матерью-писателем; над кухонной плитой висел до блеска начищенный тромбон; круглосуточно вращались пластинки: Radiohead, Tricky или, допустим, Чайковский Пётр Ильич.
Потом я стал оставаться. Потом мы решили, что не можем друг без друга.
Минул год – и вот я, пришелец, кривой прокуренный человек на пятом десятке, мартовской ночью лежу один на её девическом диванчике и слушаю её винил, чтобы не заснуть.
За чёрными окнами зима насмерть схватилась с весной за власть; в ход шло всё: снег, дождь, ветер, грязь, мокрый мусор, обледенелые голые ветви тополей; весь мировой мрак, сгущённый почти до состояния пластилина, прилипал к оконным стёклам с той стороны, и два жидких фонарика по краям переулка ничего не могли с ним поделать; художники старой школы в такие ночи пили водку на кухнях (или виски в баре на углу). Но я не художник старой школы, и давно не пью никакого алкоголя: он мешает мне жить.
Я не хотел иметь над этой женщиной никакой власти. Хотел просто быть рядом и помогать – там, где помощь, как мне казалось, была решительно необходима.
Я написал для неё сценарий, одолжил денег, подарил ей компьютер и привёл в порядок её автомобиль. А чего? Я практик, механицист. Рефлексирую и мечтаю только по субботам, в остальные дни нет времени.
Я, бля, сделался полезным.
В два часа ночи заварил себе седьмой или восьмой стакан крепкого чая и разозлился. Какого чёрта брожу здесь, как хозяин? Это её картинки, её тряпочки. Зачем вломился в её душистую вселенную? Жила себе девушка и жила, писала сценарии, снимала милые ситкомы, «Папины дочки», монтировала блокбастеры заместо вечно пьяных режиссёров-лауреатов. Дружила с весёлыми неординарными сверстниками. Всё шло отлично. Ложилась спать на рассвете. И вот появился ты, и не просто пришёл – обосновался, и вроде бы всё правильно сделал, такую женщину нельзя было упустить, – но теперь мечешься один по бело-синей комнате и не понимаешь: ты сделал хорошо себе или вам обоим?
Всё было на местах – все картины, книги, – всё осталось прежним, но меня стало больше, и я – её мужчина – не то чтобы всё испортил здесь, но изменил не в лучшую сторону.
В ужасе от содеянного лежал, глядя в потолок. Слушал, как Дэвид Боуи поёт про китайскую девушку. Кусал губы. Иногда трясся в ознобе. Но болеть, повторяю, было некогда, через пять часов я должен был пристегнуться к креслу и полететь к чёрту на рога, за семнадцать тысяч километров, – если полёт вообще не отменят по причине безобразной чёрной пурги.
Всего лишь один год.
Вспомнил, как пришёл сюда в первый раз: словно с обрыва прыгнул – настолько оглушительно свежими были чувства. Теперь мы ближе, чем брат и сестра, всё нормально и, может быть, даже лучше некуда, а я смотрю на её картины и книги – и хочу заплакать.
Пошёл, открыл форточку, потом не поленился, сходил на ледяной балкон, сдвинул створку и на балконе. Но не помогло.
Это была чистая грусть, без малейших искажений, очень лёгкая – то есть мне было плохо, я чувствовал боль, но она одновременно возвышала, облагораживала. Делала меня более живым.
Я заплакал, как умел, – и быстро успокоился: слёзы – даже когда их две-три – расслабляют взрослого человека, делают стабильным.
Один, ночью, в марте я лежал и плакал, сорокалетний, на маленьком диване в маленькой девичьей квартире.
Хотел позвонить ей, – но зачем будить в четыре часа утра, когда самый сон, когда по оранжевым лугам её мира идут грустные длинноногие женщины, одетые рискованно и романтично?
Конечно, я не погубил её, не растлил, как некий слюнявый гумберт. Не научил плохому. Ещё неизвестно, кто кого научил. Она сама сделала выбор, она сама всё решила. За мной не было вины – и была вся вина, какая существует, потому что я родился на двенадцать лет раньше, я был старше на полжизни; надо было как-то объяснить ей, что год – это так много и так мало…
Плакал.
Так было жаль её, так жаль, так больно было понимать – она думает, что впереди почти вечность, а ты уже пересчитал все оставшиеся годы и экономишь изо всех сил; голова наполовину седая. Так было приятно видеть её беспечность и лёгкость, и её дом весь был таким же – обителью лёгкого отношения ко всему, что есть; а я приполз – тяжёлый, лязгающий, – и всё прекратил. И теперь она носила моего ребёнка.
Утром, уже из аэропорта, отправил ей телефонную записку.
«Я украл твоё девичество».
Рейс не отменили, хотя мокрый снег валил щедро.
Уже вошёл в самолет, когда от неё пришёл ответ: «Какая чепуха!»
Мир хижинам
Отец жены умер в январе.
Я никогда его не видел. Жена не поддерживала с ним отношений много лет. Папа пил горькую. Профессиональное заболевание писателей.
Его книги выходили на рубеже восьмидесятых-девяностых, в маленьких издательствах, в Красноярске и Челябинске; повести, сборники рассказов; скромные тиражи; мягкие обложки с лубочными рисунками в три краски; ни денег, ни славы.
Три раза женился (тоже профессиональная традиция). Вырастил двух дочерей, а как вырастил – разругался с обеими: тяжёлый характер. Умер в одиночестве, в собственном доме на окраине Пскова. Сосед сообразил: не идёт дым из трубы, не видно следов у колодца. Заглянул в окно – лежит. Позвонил родственникам.
Назавтра чуть свет я повёз жену во Псков.
В тот же день из Новосибирска вылетела старшая дочь умершего. Из Сочи – сестра. Вторая сестра отправилась из Москвы следом за нами, вместе со своей дочерью и бойфрендом дочери на бойфрендовом автомобиле. Короче говоря, со всех концов страны на разных видах транспорта люди устремились исполнять родственный долг, не имея на то никаких причин, кроме совершенно бескорыстной любви к покойному: наследства он, слава богу, не оставил.
Жена нервничала. Из всего немаленького клана покойный поддерживал отношения только со своей младшей сестрой – единомышленницей. Она же устраивала его литературные дела. И вот теперь её – тётку Зою – нам следовало опередить, во чтобы то ни стало оказаться в доме отца хоть на час, но раньше, дабы изъять из архива покойного какие-то фотографии. Я не горел желанием выяснять интимные детали долгоиграющих семейных конфликтов, насчёт фотографий не любопытствовал, но скорость держал максимальную. Это мне нравилось: романтика! Погоня за архивом скончавшегося русского писателя.
На заправках покупал кофе в бумажном стаканчике и снова давил на газ.
Через белые подмосковные равнины, которые хотелось взбить, как подушку, – в тверские леса, насквозь, и от Новгорода на запад – ко Пскову, дремучими еловыми чащобами, мимо редких угрюмых деревень о шести-семи избах. Мрачно, огромно, девственно выглядел этот холодный кусок планеты; выйдешь по малой нужде на обочину, увидишь заячьи следы, засмеёшься – «ишь ты!» – и бегом в машину, на ходу застёгивая портки, пока мороз не совсем обжёг причинную часть.
Я это в ней уважал. Сам я в мои двадцать пять путешествовал только по ближнему Подмосковью, только в машине с тонированными стеклами и только имея при себе бейсбольную биту.
А она никогда ничего не боялась, свободно говорила по-английски, приезжала в Гамбург или в Дахаб и тут же обзаводилась местными приятелями, и новый мир изучала через людей этого мира. Мои поездки были вылазками, хаджами, её поездки – идеальным развлечением, отжигом, она не путешествовала – она трипповала.
Теперь я собирал и разбирал сумку, суетился, напрягался: брать или не брать нож, брать или не брать батарейки, – а она советовала: «Ничего не бери, так интереснее».
В день отъезда я был почти невменяем. Голова кружилась, бросало в пот. Но болеть было нельзя. Вечером приехал домой, помыкался меж надоевших стен – и решил, что отправной точкой следует назначить не мою квартиру, а квартиру жены. У себя дома можно расслабиться и проспать. Кто разбудит вояжёра в четыре утра?
Решил поехать в дом жены и вообще не ложиться.
В 22:00 вошёл в её квартиру, ещё раз проверил сумку и завис.
Делать было нечего. Читать не хотелось. Телевизор отсутствовал.
Вдруг подумал, что впервые провожу здесь одинокую ночь. И что мы всего только год вместе – а кажется, что полжизни.
Март получился в этом году злой и безжалостный: то льдом закуёт, то бесовскими ветрами просвищет, московская климатическая свистопляска, невозможно соскучиться; на третий день весны я купил себе меховые перчатки. Мне нравится всё злое и безжалостное.
Но квартира жены встретила теплом и тишиной.
В прошлом марте я приходил сюда ещё в сомнительном статусе секс-товарища, бойфренда с ограниченной ответственностью. Убегал около часа ночи. Утром надо было будить сына, отправлять в школу; шестнадцатилетний малый легко просыпался самостоятельно, без понуканий, но отец очень желал оттянуть момент окончательного разрыва. Старая семья давно рухнула, мать сына три года жила в Италии, мне было рекомендовано убираться на все четыре стороны; однако Италия далеко, а сын – вот, рядом; хотелось ещё месяц, ещё два месяца побыть настоящим отцом, который подливает чай в чашку, и желает удачи, и закрывает дверь, и наблюдает в окно, как бредёт в нелюбимую школу, отягощённый портфелем, его великовозрастный первенец.
Но наступал вечер, а вечером шестнадцатилетнему мальчишке отец не нужен – и тогда отец ехал туда, где он нужен.
В её доме сложно и приятно пахло мёдом, орехами, масляными красками. Каждый сантиметр пространства был прихотливо организован. Четыре десятка отборных книг. Два десятка виниловых пластинок. Абсолютно ничего лишнего. Диски с фильмами непрерывно уменьшались числом: хозяйка хаты как раз находилась в процессе замены устаревших носителей на новые, переписывала громадную фильмотеку на флешки. Объясняла, что есть два подхода к кинематографу: в первом случае зритель приходит в зал, садится среди других таких же зрителей и на протяжении двух часов переживает коллективные эмоции, погружённый в особую действительность; во втором случае тот же самый зритель гораздо более свободен, его не понуждают сидеть без движения, его внимание не удерживают «драматическими перипетиями» и прочими ловкими, но простыми трюками; такой зритель – более свободный и продвинутый – смотрит кино на экране любого размера, посредством компьютера или даже телефона, он может начать просмотр дома и закончить в машине или в метро; оба подхода одинаково хороши и имеют право на существование.
Гость слушал, отхлёбывая зелёный чай: она не пила ничего, кроме зелёного чая и сухого белого вина; не курила, не ела мяса и шоколада, не признавала другой воды, кроме родниковой, и каждый вечер ей звонили приятели из Чехии и республики Гана; она не покупала глянцевую периодику и не мечтала выйти замуж за перспективного углеводородного менеджера с непременной регистрацией брака в Лас-Вегасе, штат Невада; она была чрезвычайно крутая богемная девчонка.
Гость слушал, наслаждался, любовался. Возбуждало не то, что ее дебютный фильм назывался «Юнгфрау», а то, что она сама была юнгфрау, то есть – молодая девушка.
Свободное, весёлое, сильное существо жило свободно, сильно и весело среди собственноручно написанных живописных полотен и собственноручно сделанных фотографий, среди коллекций камней, собственноручно подобранных на горе Синай и возле египетских пирамид; среди книг, собственноручно написанных её отцом-писателем и её матерью-писателем; над кухонной плитой висел до блеска начищенный тромбон; круглосуточно вращались пластинки: Radiohead, Tricky или, допустим, Чайковский Пётр Ильич.
Потом я стал оставаться. Потом мы решили, что не можем друг без друга.
Минул год – и вот я, пришелец, кривой прокуренный человек на пятом десятке, мартовской ночью лежу один на её девическом диванчике и слушаю её винил, чтобы не заснуть.
За чёрными окнами зима насмерть схватилась с весной за власть; в ход шло всё: снег, дождь, ветер, грязь, мокрый мусор, обледенелые голые ветви тополей; весь мировой мрак, сгущённый почти до состояния пластилина, прилипал к оконным стёклам с той стороны, и два жидких фонарика по краям переулка ничего не могли с ним поделать; художники старой школы в такие ночи пили водку на кухнях (или виски в баре на углу). Но я не художник старой школы, и давно не пью никакого алкоголя: он мешает мне жить.
Я не хотел иметь над этой женщиной никакой власти. Хотел просто быть рядом и помогать – там, где помощь, как мне казалось, была решительно необходима.
Я написал для неё сценарий, одолжил денег, подарил ей компьютер и привёл в порядок её автомобиль. А чего? Я практик, механицист. Рефлексирую и мечтаю только по субботам, в остальные дни нет времени.
Я, бля, сделался полезным.
В два часа ночи заварил себе седьмой или восьмой стакан крепкого чая и разозлился. Какого чёрта брожу здесь, как хозяин? Это её картинки, её тряпочки. Зачем вломился в её душистую вселенную? Жила себе девушка и жила, писала сценарии, снимала милые ситкомы, «Папины дочки», монтировала блокбастеры заместо вечно пьяных режиссёров-лауреатов. Дружила с весёлыми неординарными сверстниками. Всё шло отлично. Ложилась спать на рассвете. И вот появился ты, и не просто пришёл – обосновался, и вроде бы всё правильно сделал, такую женщину нельзя было упустить, – но теперь мечешься один по бело-синей комнате и не понимаешь: ты сделал хорошо себе или вам обоим?
Всё было на местах – все картины, книги, – всё осталось прежним, но меня стало больше, и я – её мужчина – не то чтобы всё испортил здесь, но изменил не в лучшую сторону.
В ужасе от содеянного лежал, глядя в потолок. Слушал, как Дэвид Боуи поёт про китайскую девушку. Кусал губы. Иногда трясся в ознобе. Но болеть, повторяю, было некогда, через пять часов я должен был пристегнуться к креслу и полететь к чёрту на рога, за семнадцать тысяч километров, – если полёт вообще не отменят по причине безобразной чёрной пурги.
Всего лишь один год.
Вспомнил, как пришёл сюда в первый раз: словно с обрыва прыгнул – настолько оглушительно свежими были чувства. Теперь мы ближе, чем брат и сестра, всё нормально и, может быть, даже лучше некуда, а я смотрю на её картины и книги – и хочу заплакать.
Пошёл, открыл форточку, потом не поленился, сходил на ледяной балкон, сдвинул створку и на балконе. Но не помогло.
Это была чистая грусть, без малейших искажений, очень лёгкая – то есть мне было плохо, я чувствовал боль, но она одновременно возвышала, облагораживала. Делала меня более живым.
Я заплакал, как умел, – и быстро успокоился: слёзы – даже когда их две-три – расслабляют взрослого человека, делают стабильным.
Один, ночью, в марте я лежал и плакал, сорокалетний, на маленьком диване в маленькой девичьей квартире.
Хотел позвонить ей, – но зачем будить в четыре часа утра, когда самый сон, когда по оранжевым лугам её мира идут грустные длинноногие женщины, одетые рискованно и романтично?
Конечно, я не погубил её, не растлил, как некий слюнявый гумберт. Не научил плохому. Ещё неизвестно, кто кого научил. Она сама сделала выбор, она сама всё решила. За мной не было вины – и была вся вина, какая существует, потому что я родился на двенадцать лет раньше, я был старше на полжизни; надо было как-то объяснить ей, что год – это так много и так мало…
Плакал.
Так было жаль её, так жаль, так больно было понимать – она думает, что впереди почти вечность, а ты уже пересчитал все оставшиеся годы и экономишь изо всех сил; голова наполовину седая. Так было приятно видеть её беспечность и лёгкость, и её дом весь был таким же – обителью лёгкого отношения ко всему, что есть; а я приполз – тяжёлый, лязгающий, – и всё прекратил. И теперь она носила моего ребёнка.
Утром, уже из аэропорта, отправил ей телефонную записку.
«Я украл твоё девичество».
Рейс не отменили, хотя мокрый снег валил щедро.
Уже вошёл в самолет, когда от неё пришёл ответ: «Какая чепуха!»
Мир хижинам
Отец жены умер в январе.
Я никогда его не видел. Жена не поддерживала с ним отношений много лет. Папа пил горькую. Профессиональное заболевание писателей.
Его книги выходили на рубеже восьмидесятых-девяностых, в маленьких издательствах, в Красноярске и Челябинске; повести, сборники рассказов; скромные тиражи; мягкие обложки с лубочными рисунками в три краски; ни денег, ни славы.
Три раза женился (тоже профессиональная традиция). Вырастил двух дочерей, а как вырастил – разругался с обеими: тяжёлый характер. Умер в одиночестве, в собственном доме на окраине Пскова. Сосед сообразил: не идёт дым из трубы, не видно следов у колодца. Заглянул в окно – лежит. Позвонил родственникам.
Назавтра чуть свет я повёз жену во Псков.
В тот же день из Новосибирска вылетела старшая дочь умершего. Из Сочи – сестра. Вторая сестра отправилась из Москвы следом за нами, вместе со своей дочерью и бойфрендом дочери на бойфрендовом автомобиле. Короче говоря, со всех концов страны на разных видах транспорта люди устремились исполнять родственный долг, не имея на то никаких причин, кроме совершенно бескорыстной любви к покойному: наследства он, слава богу, не оставил.
Жена нервничала. Из всего немаленького клана покойный поддерживал отношения только со своей младшей сестрой – единомышленницей. Она же устраивала его литературные дела. И вот теперь её – тётку Зою – нам следовало опередить, во чтобы то ни стало оказаться в доме отца хоть на час, но раньше, дабы изъять из архива покойного какие-то фотографии. Я не горел желанием выяснять интимные детали долгоиграющих семейных конфликтов, насчёт фотографий не любопытствовал, но скорость держал максимальную. Это мне нравилось: романтика! Погоня за архивом скончавшегося русского писателя.
На заправках покупал кофе в бумажном стаканчике и снова давил на газ.
Через белые подмосковные равнины, которые хотелось взбить, как подушку, – в тверские леса, насквозь, и от Новгорода на запад – ко Пскову, дремучими еловыми чащобами, мимо редких угрюмых деревень о шести-семи избах. Мрачно, огромно, девственно выглядел этот холодный кусок планеты; выйдешь по малой нужде на обочину, увидишь заячьи следы, засмеёшься – «ишь ты!» – и бегом в машину, на ходу застёгивая портки, пока мороз не совсем обжёг причинную часть.