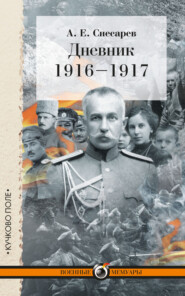По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма с фронта. 1914–1917
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дорогая моя женушка!
Наконец, у меня находится минутка поговорить с тобою. Сначала наш 8-дневный бой заставлял голову работать и не давал минуты покоя, а после него отчет, писанье и ответы. Затем следовали пополнения людьми, вызывавшие опрос претензий, распределения и выравнивания по ротам и т. п. Прежде всего повторю, что карты я от тебя получил, написал об этом тебе три раза и просил благодарить своих товарищей по Главному управлению Ген. штаба за добрые услуги. Бинокли ожидаю по почте часть и другую с Осипом. Больше биноклей пока не покупай, а так, как сделала, это хорошо. Если я дам по 2 бинокля на роту (у меня их 15), то это будет вполне хорошо. Тем более что у меня есть еще в ротах бинокли, да недавно взяли в плен 6 австрийских… вместе с людьми.
Послезавтра отсюда в Петроград выезжает мой бывший адъютант, моя недавняя правая рука, а теперь командир роты. Он едет лечиться от геморроя и плохого сердца. Похлопочи об нем изо всех сил. Побудь в Главном штабе у друзей и выхлопочи ему в Военном госпитале место. Он, конечно, человек не богатый, и это надо учитывать. Хорошо, если его будет оперировать профессор; это потому что сама по себе операция геморроя дело небольшое, но если при этом плохое сердце, то дело усложняется, и операция становится тонкой. Помню, мое сердце также выслушивали и выстукивали. Он (Роман Карлович Островский, поляк по происхождению, но женат на русской) о моей жизни расскажет тебе все самым подробным образом, так как первые 4 месяца мы с ним рядом работали, ели и пили. Ну, словом, он был адъютант, и этим все сказано. Он человек очень и очень умный, политичный, остроумный собеседник. Ну, да ты все это сама увидишь. Приласкай его, устрой, чтобы он был от тебя как командирши в восторге.
Я как-то тебе написал хотя и очень короткое, но очень и очень кислое письмо. Теперь я вспоминаю все это с улыбкой… Дело в том, что в день победы моего полка, когда я свободно вздохнул и был в восторге от его успехов, я узнал и несколько иной взгляд на весь этот эпизод. Все это было сложной сетью интриг, слухов или иных пониманий дела. Твоему мужу, конечно, это было не по шерсти, и он сильно задергался, а так как в это время уезжал почтальон, то он пред своей женушкой и разлился в слезливых ляментациях… все, мол, под луной так печально, и люди – исчадия ада. Теперь все это миновало, выяснилось, и я могу говорить обо всем этом только с улыбкой. На мое настроение отчасти повлияла и моя затяжка с Георгием. Уже была одна Дума, мой офицер, представленный мною за то же дело (шт[абс]-кап[итан] Мельников), уже получил Георгия, а я всё нет… Всё из-за этих наград, никак не могли узнать приказов, а без них Штаб почему-то все не хотел давать ход делу. Теперь я жду новой Думы, а когда еще она будет!
Прервал свое писанье, чтобы поговорить с одним из моих офицеров. Я ему предлагаю принять роту, а он от нее отклоняется… Причина мне и ему ясна, но мы оба делаем вид, что ее не знаем, и вступили в длинный ряд переговоров… В результате он расшаркался и ответил мне сухо-официальным языком, что он мое приказанье выполнит… Конечно, я мог бы не терять бы с ним времени и приказать, но мне хотелось настроить его на нужный мне лад… Не знаю, достиг ли или нет, но говорили мы много и горячо.
Вообще, работа командира полка наиболее трудна с его черного входа, о котором никто не говорит и которым пренебрегают военные историки, а она играет большую роль в благополучном ходе полкового корабля, несет с собою удачи, несет с собою поражения. Нужны и строгость, и гибкость, и изворотливость, и хитрость, чтобы дирижировать тем, что зовется суммой человеческих страстей, слабостей, настроений, фантазий, больных опасений и т. п. Командиры полков заболевают нервно не от страха пред смертью и пулями, а от непрерывного напряжения по управлению людьми, по направлению этой сложной машины к благому исходу. Одни из нас (как один из моих товарищей по Академии) думают, что всего можно достичь одной строгостью или судом, и что же? Все их офицеры уплыли из полка по тем или другим причинам, которых сам Соломон не предусмотрит, больше по нервному расстройству. Другой думает взять одной простотой и лаской, и хотя орудие оказывается все же лучше строгости, но, не будучи универсальным, и оно не дает хороших плодов…
6 марта 1915 г. Начинаются выпрашивания об отпусках или лечении, появляется сонм жен, в воздухе попахивает республикой… совсем становится неладно. На деле выходит, что надо отыскать какой-то сложный modus, в котором, как в фокусе, сойдутся всякие административные и педагогические воздействия. Вчера вечером от тебя пришли три ящика с биноклями, а сейчас производится их вскрытие. Слышу голос одного из вскрывающих: «А вот цейсовский!»; вынимаются торжественно мои калоши. Это хорошо, что ты их прислала; подходит весна, а те калоши, что у меня, дали трещину, а это, по опыту в Каменце знаю, дело не очень прочное. Сейчас распределяем бинокли по ротам, и будем жители.
Я уже тебе писал, еще повторю: наведи в Главном штабе справку, как обстоит дело с моим генеральством и с двумя моими генеральскими наградами. На днях я получил справку, что о чине пошло представление еще в октябре, о первой ленте еще в январе и о второй в конце февраля или начале марта. Не то что я хочу быть генералом (если уж хочешь, по правде, мне очень будет приятно, как мою крошечную и молодую жену будут величать «Ваше Превосходительство», а если Ейке напишут официально, то извольте тоже «В[аш]е Прев[осходительст]во Евгения Андр[еевна]» и т. д… соблазнительно), а раз это все пошло уже в ход, невольно думаешь, почему же оно где-то застряло. А затем, получить две ленты в мирное время – это взять из кармана несколько сот рублей. С производством я обхожу несколько сот, или, по крайней мере, сотню людей… и другое.
Завтра уезжает Ром[ан] Карлович, и я с ним напишу тебе еще письмо. Давай себя и наших малых, я вас всех крепко обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй папу с мамой и знакомых.
10 марта 1915 г. [Открытка]
Дорогая женка!
Опять пришлось 3 дня засуетиться, и не было времени тебе писать. Была работа, взяли 1 офицера, 250 н[ижних] чинов пленных, 1 пулемет. Пленные все подходят. Сейчас у нас прекрасная погода, пахнет весною, хотя кругом еще снег. Повторю, что карты (раньше) и бинокли (на днях) я получил, пока биноклей не покупай… за услугу все мы тебе крайне благодарны. Получил ваши карточки (каток, комната и Ейка); Генюра у тебя одет прелестно, Кирилочка – скромно (подравняй), Ейка – блестяще. Смотрю на вас беспрерывно, в три лупы. Присылай новые карточки. Крепко вас обнимаю, целую и благословляю.
Ваш отец и муж Андрей.
10 марта 1915 г.
Дорогая моя женушка!
Опять была возня с нашим недругом. Позавчера пришлось помогать соседям, а вчера он пошел и на нас. Так как его было не втрое или четверо больше, а только разве вдвое, то музыка продолжалась недолго. В эту ночь, когда зашла луна и стало темно, полк перешел левым флангом в контратаку, обошел противника правый фланг и тыл и сбросил с позиции. Нами за эти два дня взято в плен 1 офицер и до 250 ниж[них] чинов, захвачен 1 пулемет. С этим пулеметом произошла комедия. Моя рота, отбившая этот пулемет, пошла дальше в преследование, а у «гевермашины» (это знают и наши солдаты) оставила одного солдата. На этого-то одинокого защитника набросились разведчики соседнего полка, отбили машину и понесли к себе. Заварилась каша. Скоро всё, конечно, открылось. Мы донесли, что взяли пулемет и с ним 42 пленных, а они могли донести только о «голом» пулемете, что и вызвало сомнение… пулеметы в одиночестве не берутся, а непременно с пулеметчиками и прикрытием… В результате пулемет будет к нам водворен.
Вчера получили новость о взятии Перемышля, сообщили на позицию, и люди кричали «ура»… Хотели тем или иным путем уведомить об этом австрийцев, но пленные сегодня сказали нам, что об этом у них уже знают от мала до велика и что когда с наших позиций они услышали раскаты «ура», они поняли сейчас же, о чем говорят эти могучие и торжествующие звуки. Эти дни – 21 февраля – 10 марта – стоили мне немало потерь в людях и офицерах; успокаивает меня только то, что сделано огромное дело и враг понес вдесятеро.
Сейчас твой муж вставал, так как услышал, что ведут австр[ийского] офицера и надо будет его принимать. Я был в теплой (вязаной) рубашке навыпуск, а теперь надел присланную тобой гимнастерку (или рубашку, как хочешь). Интересно будет мне с ним поговорить, как-то он будет касаться вопроса о Перемышле. Это вопрос рокового порядка, а для них вопрос, конечно, тяжкий… я помню, что мы все пережили с падением Порт-Артура. Как-то в Самборе, когда мы его взяли, я в магазине разговорился с двумя жидами, и они мне сказали, что все наши успехи (дело было в начале сентября)… ловлю себя на другой мысли, которая течет параллельно с излагаемой: как бы мне хотелось сейчас схватить в объятия мою маленькую женку, душить ее до тех пор, пока она вытерпит, и целовать без счета ее мордочку… так разговорился я с жидами, и они мне в один голос говорили: «Да, вы сделали много и успехи ваши несомненны, но все это пустяки: вся ваша армия разобьется о наш Перемышль… Вы знаете, что это за крепость?» Я не знал. Тогда они начали городить мне общий и очень сильный вздор (как настоящие купцы) о силе своей крепости, «ключ ко всей Галиции», и заключили повторением мысли, что мы погубим сотни и сотни тысяч людей, а Перемышля не возьмем… Каково было их удивление, когда я высказал им, что не всегда о крепости разбивают лбы (вольному воля), а бывают и другие способы: забивают и разрушают огнем, морят голодом и т. п. Во всяком случае, мысль этих торгашей была интересна как отражение дум средних людей страны.
Сейчас уезжает почтарь и не позволяет мне поболтать еще с моей маленькой деткой. В соседней комнате сидит австр[ийский] офицер (венгерец), и мои офицеры (все еле-еле говорящие немцы) стараются с ним настроить беседу… Офицер пришел с промокшими ногами, все это с него снято и сушится, а он сидит в валенках одного их моих офицеров… он в таком восторге от этого ножного маскарада, что непрестанно посматривает на свою новую обувь. Вокруг него сидят мои офицеры и наперерыв пичкают, засматривая ему в рот (ест ли, мол), а снаружи пленных обступили солдаты и тоже оделяют, чем Бог послал… Картина обычная, как я тебе писал…
Давай малых… получил ваши карточки и нахожу, что Генюша, как конькобежец, одет изящно и интересно (особенно эта белая опушечка в связи с белой шапочкой)… Только Кириленок у тебя слишком прост… давай малых, себя, я вас расцелую, обниму и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
12 марта 1915 г.
Дорогая моя женушка!
Стоят у нас тихие дни (сравнительно, конечно), и я привожу в порядок запущенные бумажные дела и, в первую очередь, конечно, награды. Со вчерашним письмом получил еще две карточки; когда читаешь твои письма и смотришь на карточки, ваша жизнь рисуется выпукло, как живая. Генюша шикарно снимается, это его прямо профессия. Как он красиво стоит на катке в своем изящном костюме: постав ног, головы, спокойно спущенные руки, спортсменское выражение мордочки – все это так напоминает изящество его отца! Он как будто даже в плечах стал немного шире и вообще плотнее. Ты на катке выглядываешь молодцом – смеешься и имеешь здоровое лицо. Кириленок и на той, и на другой карточке поражает меня своими грустными глазками: или это станет их обычным отпечатком, или он снимается в грустях, или он просто не совсем здоров… В твоем письме от 26 февраля ты подробно рисуешь наш выводок, особенно налегая на дочь… В каком же смысле она у нас будет знаменитостью? Уж не вторая ли Преображенская? Следи, мать, за тем, чтобы фразы «знаменитость», или «красавица», или «умница» поменьше долетали до детей, они должны быть скромны, а если выйдет из них что крупное и родине полезное, мы с тобой будем смотреть на это как на подарок Бога. Я помню, как покойница мать останавливала меня всегда, как только я поднимал вопрос о своей «гениальности»: «Если из тебя и выйдет гениальный, то разве свистун». Будучи студентом, я уже ловил ее на ее обычном педагогическом приеме, мать улыбалась, но знала, что делала. У тебя дети как-то сразу все замузицировали, это очень хорошо, но только чтобы они не переборщили: слишком уж они, мать, малы у нас, и обильная музыка может сказаться на нервах. Конечно, тебе там виднее: раз едят и спят хорошо, ссорятся или плачут не каждую секунду, то значит, все обстоит благополучно.
Сидоренко и Ефанова отбирают у меня окончательно. Получена телеграмма об «откомандировании немедленно». Ответил, что Сидоренко сейчас же отсылаю, а Ефанова – по выздоровлении. Ничего не поделаешь, раз они так взялись, надо уступать, так как по существу дела с момента утверждения меня командиром полка держать казаков у себя я не имею права. Генерала Павлова, вероятно, уже нет, а новый меня не знает, да и по какой причине он разрешит командиру пех[отного] полка задерживать у себя казаков… он и сам на это не имеет права. Есть у меня причины и другого порядка: делать тут у меня им решительно нечего; три месяца они живут с лошадьми в двух верстах от меня (возле меня нет помещения для лошадей), а что они там по целым дням делают, я и не знаю; самому мне смотреть трудно, а им, как моим людям, не смеет никто и слова сказать… при таких условиях простому человеку можно вконец и на всю жизнь испортиться. Даже офицеры-то их баловали. Они у меня так награждены, что им и в полку плохо не будет.
Сейчас у нас стоят весенние прекрасные дни, тихо и прохладно. Вся прелесть горного климата сказывается в эти дни. Половинная луна добавляет свою дань общей красоте. Я хожу, заложив руки в карманы своей шинели, любуюсь на горы, с которых нервно сбегает снег, и несусь мыслями к той комнате, где на подоконнике лежат солдаты, а возле окна сидит мое гнездо, выводок с маткой, и мне нужны некоторые усилия, чтобы успокоить свое солдатское сердце и сказать ему: «Погоди, не волнуйся и не бейся, тебе еще надо быть холодным, суровым и даже жестоким, пока враг не добит и величие твоей родины не обеспечено…» Но кто-то другой мне говорит: «Не бойся, сердце – сложный аппарат, в нем уживаются суровость и жестокость воина рядом с теплыми и тихими порывами к своему родному уголку»; и я слушаю этот голос, и мысли мои летят ко всем, в комнатку, где на подоконнике лежат солдаты, и мне хочется вас прижать, обнять и расцеловать…
Крепко вас обнимаю, целую и благословляю.
Ваш отец и муж Андрей.
12 марта 1915 г. [Открытка]
Дорогая Женюра!
Стоит у нас прелестная погода, горный воздух – сама прелесть, снег быстро сбегает. У нас сравнительно тихо, и я потонул в бумагу… Это такой зверь, который не покидает нас и тут. Получил вчера (с письмом от 26 февр[аля]) еще две карточки и любуюсь вами. Особенно удачно выходит Генюша, а на катке хорошо вышла и ты с Кирилочкой. Завтра отсылаю Сидоренко, а по приезде сюда и Осипа… его я удержал пока под предлогом болезни. Не знаю, получим ли мы пасхальные подарки, как это было с рождественскими. Обстановка несколько иная. А солдатишек побаловать не лишнее – заслужили. Что папа с мамой ничего мне не пишут? Как их здоровье?
Обнимаю, целую и благословляю вас.
Ваш отец и муж Андрей.
14 марта 1915 г.
Дорогая Женюша!
Пишу с головной болью. Вчера взял ванну, а ночью все-таки приходилось выходить к телефонам (проходить надо по двору), и, вероятно, немного прихватило. Вчера отослал Сидоренко, оба всплакнули, а товарищи его (Шпонька, Кара-Георгий) и совсем были расстроены; ездили провожать его за несколько верст. Хотя Сидоренко и был, конечно, не без грехов, но жизнь бок о бок в течение нескольких месяцев, а главное, под огнем, создает привычку и даже слепоту к порокам. Привязался Сидоренко ко мне сильно, и уезжать ему было очень тяжко.
Это письмо или повезет тебе Горнштейн (который едет сегодня-завтра в Петроград), или я дам его почтарю, еще не решил; вероятно, последнему, так как Горнштейн сначала заедет в Екатеринослав, а потом уже в Петроград, и письмо по почте дойдет скорее. Письмо по поводу Платова тебя заволновало, и ты стала даже задаваться вопросом, отчего я стал писать чаще. Это напоминает мне генерала Гуславского, который, благодаря своей трусости, всякое поведение противника обращал к нам не в пользу или в опасность. Начинает враг стрелять, и он, крестясь и что-то шепча, начинает бросать фразы: «Стреляет, уж стреляет… да еще какой огонь!». А если противник замолчит, то он крестится еще сильнее (старается украдкой), начинает нервно ходить, сплевывая в сторону, и мы слышим такие фразы: «Перестал стрелять, совсем перестал… пошел, значит в атаку…»
Это было для нас постоянным праздником и неизменным поводом для шуток и подвохов. В нервах и боязни генерал ничего не замечал, что и составляло пикантность наших шуток. Даже генералу Павлову приходилось иногда нас останавливать, чтобы поддержать репутацию генерала. Так и ты, моя детка, не пишет тебе муж долго, ты начинаешь волноваться: отчего это не пишет, не случилось ли что; начинает муж писать часто, опять волнение: «Отчего это он так зачастил, что-то его беспокоит…» Сейчас я не остановлюсь над этим вопросом, так как решил послать с почтарем, а он скоро едет… Как ни странно, но одной из причин было суеверие… Ты, моя маленькая, одна можешь связать редкое писание с суеверием, одна, которая меня знаешь насквозь. Забавно, что война отозвалась на мне главным образом с этого бока: «три свечки, соль, с правой ноги» и т. п. Все это теперь блюдется мною с большей аккуратностью, чем когда-либо раньше; даже палочка, которую я имею с Городка, и с которой я провел все наиболее опасные бои, и она получила в моих глазах какое-то особое значение. А и палочка-то форменная дрянь: простая, изогнутая… плюнуть, да сломать! […]
Жду Осипа завтра или послезавтра. Каких-то он мне привезет карточек? Твоя, детка, мысль, посылать их систематично, прямо гениальна. Попробуй, напр[имер], снять их в ванне во время купания!
Остается одна страстная неделя, а там и Пасха… Получат ли мои солдатишки что-либо к ней? Вероятно, Роман Карлович уже к вам приехал, и идут разговоры. Голова за писанием как будто стала легче, так что едва ли буду что-либо принимать.
Крепко вас обнимаю, целую и благословляю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй папу с мамой и знакомых.
15 марта 1915 г. [Открытка]
Дорогая женушка!
Это письмо Горнштейн бросит в ящик, а другое (от сегодня же) передаст тебе лично по прибытии в Петроград. Он тебе порасскажет про наше житье-бытье, хотя мне и трудно было поговорить с ним из-за постоянных хлопот. Осипа до сих пор еще нет, хотя ты хотела его выслать 9-го во вторник. Не задерживается ли он где со своими посылками? С Горнштейном я пересылаю свою шубу, папаху и еще что-то, что весною мне не будет нужно. С Осипом жду карточки, которые меня страшно интересуют. Что-то теперь говорят по поводу падения Перемышля! Воображаю, как заговорят газеты!
Крепко вас обнимаю, целую и благословляю.
Ваш отец и муж Андрей.