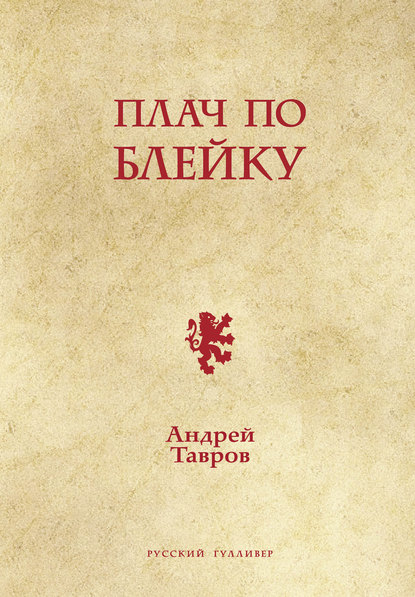По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Плач по Блейку
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
мимо луж, телег, хлопающих калиток,
мимо служанок, клерков, грузчиков, открытых окон,
Уильям идет как разорванный кокон,
ставший бабочкой в воздухе достоверном,
мимо матросов, баров, мимо таверны
с государственным флагом, славься и правь морями,
бабочка с выгоревшими бровями!
Первая сфера Англии – ангел по имени Сандальфон,
снег на него сыплется со всех сторон.
Совесть – это форма пространства и речи.
У Блейка на спине зажглись все свечи.
Любовь это то, что формирует формы, гнет брег и губы,
но щадит тростник и рыбацкие шлюпы.
Младенец умирает, совсем синий, но Блейк донесет младенца,
он донесет младенца,
завернув в свое сердце бум-бум, в свое сердце бум-бум —
одно и то же сердце для лошади, рыбы и бабочки.
Наших форм не видят ангелы, все это бред собачий
про нежных ангелочков.
Язык смерти – все, что мы тут столь важно делаем и вещаем —
им неведом, и сами мы им неведомы.
Ангелы видят сердце Блейка – что-то вроде безрукого
и безногого инвалида, в лучах плывущий обрубок,
что-то вроде пустой байдарки на зеленой реке —
звезда Престолов.
ГОГОЛЬ В РИМЕ
Николай танцует на площади, а птица в небе,
чарторыжская липа цветет, майор Ариэль!
Что произойдет, то вновь повторится
раз в миллион лет карамелькой под языком.
Николай, он из плаща и носа, из башмака и каштана,
он Себастьян из молочной буквы, из дыма под языком,
оскал его волчий, и плачет глаз-горемыка,
зыблема жизнь – полиэтиленом на рогах у лося.
Твердая твердость есть в Риме, легкая тяжесть,
зрячая зрячесть есть в нем и вещная вещность,
кровная кровь и солнечность кровли есть в Риме,
и птица спешит по гнездо в небесах тороватых.
Вдохнет он себя, а выдохнет серебро
Дона-реки, ни с кем ни знаком, ни рыба, и ни Тарас,
качает себя на кроватке – ребро напоказ,
ах, гули-гули! ах, Коленька, ах баю !
Идет и уходит, как снег под лучом в овраг,
плавит себя до черепа и ноги,
уже на свободе и призрачен, словно враг,
когда жизнь на луну уносят, блеснув, штыки.
От письма-человека остается сфера, стекло,
как от птицы яйцо, от туши сгнившей – жакан,
от всего остается сфера в сфере другой,
объятая третьей, и в ней стоит ураган.
Катайся, круглись, стукайся, закругляй,
пока живешь и бормочешь вещи или слова,
себя узнавая как край, выступивший за край
себя самого как карта, как синева.
СЕРЕДИНА
Птица летит птице навстречу,
к себе приближаясь, к себе приближаясь, к крику.
Не видно зеркала, и к зайцу бежит заяц.
А белые ноги и белая грудь
дрожат от натянутых изнутри пружин.
И рыба плывет к рыбе.
Чжун юн, говорит Кун-цзы, держись середины.
Но зеркала нет.
Встречаясь, они исчезают,
чтоб появиться в ангеле
или в кабане, или бумажном кораблике,
в чашке кофе, в ампутированной ноге,
в ночной фиалке, реже в человеке.
Рыба это не рыба, это почти рыба.
Буква это почти буква, а тело почти тело.
Шрам это почти шрам.
Мы с тобой нащупывает друг друга
как медузу в вазелине желеобразными пальцами.
Мыслит ангел вещами,
а вода рыбой,
и то, что не изменится в мертвом
мимо служанок, клерков, грузчиков, открытых окон,
Уильям идет как разорванный кокон,
ставший бабочкой в воздухе достоверном,
мимо матросов, баров, мимо таверны
с государственным флагом, славься и правь морями,
бабочка с выгоревшими бровями!
Первая сфера Англии – ангел по имени Сандальфон,
снег на него сыплется со всех сторон.
Совесть – это форма пространства и речи.
У Блейка на спине зажглись все свечи.
Любовь это то, что формирует формы, гнет брег и губы,
но щадит тростник и рыбацкие шлюпы.
Младенец умирает, совсем синий, но Блейк донесет младенца,
он донесет младенца,
завернув в свое сердце бум-бум, в свое сердце бум-бум —
одно и то же сердце для лошади, рыбы и бабочки.
Наших форм не видят ангелы, все это бред собачий
про нежных ангелочков.
Язык смерти – все, что мы тут столь важно делаем и вещаем —
им неведом, и сами мы им неведомы.
Ангелы видят сердце Блейка – что-то вроде безрукого
и безногого инвалида, в лучах плывущий обрубок,
что-то вроде пустой байдарки на зеленой реке —
звезда Престолов.
ГОГОЛЬ В РИМЕ
Николай танцует на площади, а птица в небе,
чарторыжская липа цветет, майор Ариэль!
Что произойдет, то вновь повторится
раз в миллион лет карамелькой под языком.
Николай, он из плаща и носа, из башмака и каштана,
он Себастьян из молочной буквы, из дыма под языком,
оскал его волчий, и плачет глаз-горемыка,
зыблема жизнь – полиэтиленом на рогах у лося.
Твердая твердость есть в Риме, легкая тяжесть,
зрячая зрячесть есть в нем и вещная вещность,
кровная кровь и солнечность кровли есть в Риме,
и птица спешит по гнездо в небесах тороватых.
Вдохнет он себя, а выдохнет серебро
Дона-реки, ни с кем ни знаком, ни рыба, и ни Тарас,
качает себя на кроватке – ребро напоказ,
ах, гули-гули! ах, Коленька, ах баю !
Идет и уходит, как снег под лучом в овраг,
плавит себя до черепа и ноги,
уже на свободе и призрачен, словно враг,
когда жизнь на луну уносят, блеснув, штыки.
От письма-человека остается сфера, стекло,
как от птицы яйцо, от туши сгнившей – жакан,
от всего остается сфера в сфере другой,
объятая третьей, и в ней стоит ураган.
Катайся, круглись, стукайся, закругляй,
пока живешь и бормочешь вещи или слова,
себя узнавая как край, выступивший за край
себя самого как карта, как синева.
СЕРЕДИНА
Птица летит птице навстречу,
к себе приближаясь, к себе приближаясь, к крику.
Не видно зеркала, и к зайцу бежит заяц.
А белые ноги и белая грудь
дрожат от натянутых изнутри пружин.
И рыба плывет к рыбе.
Чжун юн, говорит Кун-цзы, держись середины.
Но зеркала нет.
Встречаясь, они исчезают,
чтоб появиться в ангеле
или в кабане, или бумажном кораблике,
в чашке кофе, в ампутированной ноге,
в ночной фиалке, реже в человеке.
Рыба это не рыба, это почти рыба.
Буква это почти буква, а тело почти тело.
Шрам это почти шрам.
Мы с тобой нащупывает друг друга
как медузу в вазелине желеобразными пальцами.
Мыслит ангел вещами,
а вода рыбой,
и то, что не изменится в мертвом