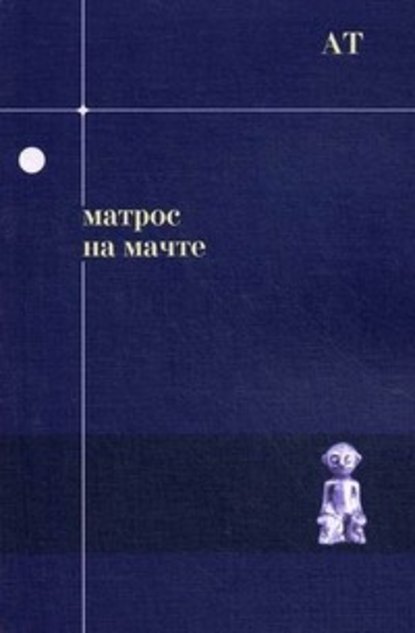По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Матрос на мачте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А во-вторых… не знаю, стоит ли и говорить-то о какой-то досадной мелочи, несущественной для нашего повествования… но… но скажу. На пути вверх, окинув взглядом расступающийся окоем со всеми остальными пирамидами, Большим Сфинксом и другими необозримыми далями, в каком-нибудь уголке этих далей, загнувшимся как уголок носового платка, вы непременно разглядите крошечного человечка, который мочится себе на камень или просто в песок и знать не знает о вашем существовании. Эта крошечная трогательная деталь настолько поражала всех живописцев, имевших дело с великими событиями (Революцией, как Марк Шагал, или Башней из Вавилона, как Питер Брейгель), что они никак не могли пройти своим взглядом мимо этой крошечной фигурки, справляющей надобности на фоне мировых артефактов. Видимо, есть в ней, фигурке этой, что-то успокоительное, что-то противящееся всем катаклизмам и катастрофам, всем Антихристам, а заодно и мессиям. Противящееся тому, что Одиссей, например, так жестоко убил Антиноя, или, скажем тому, что поезд переехал на подступе к Москве кошку, или жена взяла да и изменила любимому мужу. Или тридцати миллионам павшим с нашей стороны во время войны и трем миллионам замученным в советских лагерях. И в чем тут загадка, что за магия такая окутывает этого вездесущего писуна, мы не знаем и знать не можем.
Мы не знаем также, что открылось душе и взгляду Владимира Сергеевича, когда он добрался до вершины пирамиды, но думаем, примерно то же, что и его прилежному и хулиганистому ученику Б. Бугаеву. Он увидел (не важно, кто именно, здесь, поверьте, это не имеет ровно никакого значения), увидел, что основание пирамиды перестает расходиться к земле в правильный квадрат огромных размеров, а что края его словно подворачиваются, подвертываются, подстегиваются, словно бы скатываются вовнутрь, что стенка, по которой вы ползете словно муха, перестает быть наклонной и неподвижной и начинает двигаться и клониться, все больше и больше нависая над землей, а вы, вцепившись в очередной каменный блок, с ужасом следите, как пирамида кренится, словно падающая стена дома, в который попала десятитонная авиационная бомба, как она, ожив под, вами, начинает свое смертоносное движение падающего с неба дирижабля, что, конечно же, приведет к тому, что вы будете сброшены как неуместное насекомое и не к земле даже, а в долгую зеленую бездну, которая с ужасающей ясностью открывается в этот миг прямо перед вашими глазами.
Явление это известно как пирамидная болезнь. Однако то ли философ из России ей не был подвержен, то ли благополучно справился с ее симптомами, только через несколько минут он уже стоял на самой вершине огромной пирамиды рядом со своим низкорослым сталкером. Его длинная фигура в темном плаще и цилиндре, каким-то чудом не утерянном и не сдутым в пропасть, величественно высилась на фоне закатного каирского неба со всеми его блуждающими в нем клеопатрами и антониями, буонапартами и рамзесами, тутанхамонами и изидами, со всеми их млечными хороводами, разряжаемыми розовыми ангелами истории – кружащимися в небе вокруг вершины, заплетаясь в концентрические водовороты и воронки, чтобы к ночи вплестись во вращение звездного небосклона с ветвистыми и мохнатыми огнями. Силуэт философа высился на вершине принильского мира, и ветер трепал плащ и закручивал его, как в какой-нибудь особенно лихой и продувной замоскворецкой подворотне, вокруг костлявых и длинных ног. И тогда Владимир Соловьев полез в карман сюртука и достал оттуда бабочку. Она была невелика – величиной с японский веер зеленого цвета, и ее крылья – оба левые – распрямились и пронзили воздух долины царей, когда философ подкинул ее в воздух. В тот миг пирамида Хеопса осела ровно на величину раскрытого веера, а жизнь Владимира Сергеевича Соловьева в 1900 году закончилось не тогда, когда ему это было предписано судьбой и жизнью, не в тот день, час и секунду, а продлилась ровно на одно дыхание больше, вопреки всем законам мироздания, на одно дыхание – глубокое и свежее, как короткий взмах веера в душной комнате.
Подруга
25 ноября 1875 года из главного (и единственного) подъезда знаменитого «Аббата» вышел человек в длинном темном плаще, в высокой и темной же шляпе. Зрелище само по себе фантастическое, потому что и Реомюр, и Фаренгейт, и Цельсий не сговариваясь показывали температуру, при которой в России принято загорать на пляже. Но странника это обстоятельство, казалось, не смущало вовсе, так же как и отсутствие при себе какой-либо дорожной сумки с маломальскими запасами воды или продовольствия. На него оглядывались. Какой-то старый араб, сидевший в тени от стены, долго смотрел ему вслед, покачивая головой. Конечно, и араб, и француз, здесь тоже как-то случившийся, сначала покрутив для порядка головой – араб с неухоженными усами, а француз с ухоженными – и гмыкнув себе под нос что-то вроде пр-р-р-р-сык! – через какое-то время все-таки входили в положение странника и признавали про себя, что мало ли какие обстоятельства могут у человека сложиться, что он в результате них одевает на голову не панаму, а цилиндр и вдобавок заматывается поверх костюма плотным английским плащом, может, траур по ушедшей с каким сорванцом жене, а может, так, чудак из России на букву «м», но понять человека можно. Но если б узнали они, куда и зачем в это раннее утро направляется господин в европейской шляпе, они его все же не поняли б. И даже, если бы он им все подробно объяснил, они бы его все равно не поняли. Не поняли, и все тут. Потому что есть такие вещи на свете, которые понимать неприлично. И ежели ты взял их и понял, то сам становишься человеком не просто неприличным, а даже неприличным до чрезвычайности, закосневшим, так сказать, в неприличии, и закосневшим настолько, что и сам ты хорош. И сам ты пошел вон. И сам ты держись подальше, придурок.
Дело в том, что Владимир Сергеевич Соловьев в таком виде и столь ранним утром отправился не куда-нибудь выпить-покурить, а в пустыню. И не просто в пустыню, до которой было тут рукой подать, так что можно было бы в нее и погулять сходить, а к обеду вернуться, – а в Фиваиду, поселение, находившееся отсюда не на расстоянии предобеденной, скажем, прогулки, а за двести с лишним миль. И шел он не по дороге и не с караваном, а без дороги и совершенно один.
Накануне он объяснил своему новому знакомому – русскому генералу Фадееву, что отправляется туда не по недомыслию, а в поисках старинных секретов отшельников, населявших даже и по сю пору эти пустынные места. В письмах же к друзьям Владимир Сергеевич сообщал, что в районе Фиваиды надеется встретиться с масонской группой, владеющей старинными каббалистическими знаниями, утраченными во всех других местах мира.
Но и это была только правдоподобная версия для отвода глаз. На самом же деле Владимир Сергеевич, странник, философ, поэт и непрямой, но явный потомок другого чудака, странника и философа Григория Сковороды, шел на свидание. И ежели вы спросите меня, не на любовное ли, то я скажу, да, на любовное, но прежде добавлю несколько слов по поводу его дальнего родственника. Потому что Григорий Сковорода – это не прозвище какое и не кличка, а фамилия человека, который встретился с Создателем мира сердцем к сердцу, а на могиле своей, после того как обошел несметное количество пыльных, грязных, зимних и летних дорог, под звездами и луной и в пении цикад и кузнечиков, велел написать эпитафию, которую сам же и сочинил. Звучит она так: «Мир ловил меня, но не поймал». И здесь я прошу не спешить с выводами, которые по некоторой поспешности могут привести вас к мысли, что за философом гонялись какие-нибудь полицейские или жандармы, – это не так. Потому что ни полицейские и ни жандармы за ним не гонялись. И вообще не видно было, чтобы хоть кто-то за ним гонялся. А значит, здесь дело в другом.
Вообще, многие слова и понятия раньше означали совсем не то, что сегодня. Иногда и вовсе ни с какой бутылкой не разберешь, что хотели люди сказать.
Я никогда не видел его могилы, хотя и читал его веселые и торжественные трактаты о Боге и мире, и не знаю, где она расположена, но хотелось бы мне, чтобы был он упокоен где-то в васильковом да ржаном поле и чтобы ветер раскачивал над головой его небо с облаками, а в углу поля, в лощине, виден был на просвет Днепр. Не успею, наверное, я отыскать могилу его и приехать, и скорее всего, нет там ни васильков, ни поля, а какая-нибудь есть там церковь, где его и похоронили, когда он отмахал свое по малоросским дорогам, да нынешняя братва крестит там своих первенцев по воскресеньям и угощает попа пьяный пахан, от которого разит «Хьюго Боссом» да чесноком, а вот все же тянет. Тянет прийти туда не знаю куда и сесть на эту целомудренную могилку странника и чудака. Потому что и у пахана может теплиться надежда, что и его не поймают ни с налогами, ни с заграничными банками, ни с десятком-другим исчезнувших без вести соотечественников. Вот Сковороду же никто не поймал, а значит, и у пахана есть равнозначная надежда. А во всякие тонкости словоупотребления он вникать не собирается. Важно суть уловить, а умничать ему ни к чему. И думается мне, что не приду, не сяду, не помолюсь, глядя в синее малоросское небо, полное золотых солнечных лучей и ласточек. Но пока тянет меня туда, мне хорошо. Словно не с одним философом Соловьевым в родстве философ Сковорода, но и со мной, духовным сыном Владимира Сергеевича, тоже.
Итак, философ Соловьев шел на свидание. Третье по счету. Его возлюбленная не баловала своего почитателя частыми встречами. И все же он всегда чувствовал ее присутствие рядом, как это бывает в великих и преувеличенных романах о вечной любви, которые всегда печально кончаются, потому что никто не верит, что такая любовь на самом деле возможна. Он чувствовал ее, когда смотрел на небо, а в волосах его запутывался кузнечик, или когда ехал на извозчике и дождь моросил ему за шиворот, или даже когда его облаивали собаки, которых он любил. И куда бы он ни приходил, в какой бы ни селился гостинице прямо с вокзала, уже через каких-то полчаса на подоконник слетались голуби, десятки сизарей и крапчатых, и начинали стучаться клювами в окна, словно пытаясь войти внутрь и передать послание, отправленное голубиной почтой. Он их не пускал, но подкармливал.
Он влюбился в Нее с первого же раза и на всю жизнь, когда увидел ее мальчиком в московской университетской церкви в честь святой мученицы Татианы. Второй раз он встретился с ней в Англии, не так давно, когда работал над каббалистическими трудами в библиотеке Британского музея. И тоже все было на бегу да отчасти. И именно там, в библиотеке, во время короткой и, как казалось, случайной встречи она обещала ему, что если он поедет тотчас, не откладывая, в Египет, то встретит ее в пустыне. Причем в этот раз она откроется ему не на бегу и не отчасти, а вся как есть. И он поехал.
Сначала поездом в зеленый Париж. Потом в Италию. Потом поплыл из Брундизи Средиземным морем по синим волнам. И вот теперь – пошел. В желтые пески. Туда, где ждала его самая светлая, самая волшебная, самая последняя и бессмертная, страдающая и обиженная краса мира, – в пустыню.
Лев-змей
Перед отъездом из Лондона он зашел в лавочку древностей и купил веер. Продавец, похожий на диккенсовского персонажа, с седеющими пушистыми бакенбардами во всю щеку и морщинистыми как у беркута подглазьями, не торопясь и степенно объяснил ему, что вещь эта старинная и привезена с Востока. Он развернул веер, и на зеленый шелк взлетел алый дракон. Владимир Сергеевич вспомнил, что едет в страны жаркие, и веер купил.
Теперь он лежал у него в глубоком кармане плаща, больше похожего на пальто. Он шел уже целый день и очень устал. Солнце начинало клониться к неровной линии горизонта, отчего серые пески стали отсвечивать золотой зеленью и тянуть фиолетовой тенью. Несколько раз он садился отдохнуть прямо в песок, прислоняясь к большим камням, которые ему время от времени попадались на пути. Ветра не было совсем, и весь день палило солнце. Он сидел под камнем, обливаясь потом, и обмахивался веером с алым драконом. Сначала дракон двигался вместе с веером, а потом начал отставать, не совпадать с ритмом, увеличиваться и подлетать в воздух. Там он махал короткими крыльями и разворачивался вокруг невидимой оси. Таким образом он хранил своего хозяина, время от времени оглядываясь вокруг и впуская и выпуская кошачьи когти, пропитанные самурайским ядом.
Поскольку то, что произошло дальше, является никакой не выдумкой, а чистой правдой, но обычными словами изложено быть не может, то мы для того, чтобы хотя бы попытаться быть понятыми, перестанем рассказывать сказки и байки про масонские ложи и каббалистические секреты, а вместе с философом поднимем веер, делая вид, что не замечаем расположившихся неподалеку четырех музыкантов, а также снующих вокруг ангелов-курумба, служителей пустыни, помогающих событию происходить так, как это было задумано тем, кто в это событие решил впутаться и ввязаться, то есть самим участником. Потому что, как только появляется у любого из нас мысль и решимость ее осуществить, тотчас появляются вокруг нас ангелы-исполнители, и хотя мы их прекрасно видим, но все равно внушаем себе изо всех сил, что это не ангелы, а скажем, порывы ветра, или шум платья, или что это, например, фольга от съеденной конфетки тонко позванивает на асфальте. И делаем мы это не в силу каких-то врожденных и разнообразных поэтических фантазий, а всего лишь для того, чтоб оставаться жертвой обстоятельств, потому что это делает нас по-восточному женственными. Но как только мы поднимаем веер, приходят в движение ангелы, появляется из-за куч песка отряд бедуинов-кочевников, не то чтобы очень уж агрессивных, но все же людей решительных и вооруженных.
Хай-хай! Они погоняли верблюдов и кружили вокруг вскочившего на ноги путешественника. Лица семерых кочевников были закутаны в полосатые платки, спускавшиеся до пояса, а за плечами двоих бились в такт верблюжьей рыси отличные английские винтовки последнего образца. Хай! Круги сужались, и один из всадников сдернул винтовку с плеча. Хай-олла! За мягкими подошвами бегущих по кругу зверей взвивались в воздух фонтанчики песка, ковры, покрывавшие верблюжьи спины, хлопали о бока, а всадники раскачивались наверху, балансируя головами, замотанными полосатыми тряпками. Философ спрятал веер в карман и поднял вверх раскрытые ладони. Он улыбался. Кочевники кружили вокруг него, но почему-то не приближались. «I am your friend, – сказал философ. – Don’t be afraid». «Are you a man? – спросил один из всадников с сильным акцентом, стараясь не смотреть в глаза странному черному человеку в высокой шляпе и словно бы черными крыльями за плечами, машущими в поднявшемся ветре. – Are you а devil? Are you а shaitan?»
Тот всадник, что снял винтовку, внезапно стремительно скатился с верблюда и бросился на философа. Боднул его в грудь головой, и оба повалились на песок. Еще один мамелюк подбежал к ним, ударил человека в плаще по спине прикладом винтовки, вдвоем они заломили ему руки за спину и связали.
Бум-бум, сказал барабан, а хор запел:
Ночью вы ложитесь спать в черной комнате на белые простыни,
которые тоже кажутся черными, потому что вы целый день смотрели на солнце,
и оно стало черным.
Вы ложитесь на черные простыни, и в ваш позвоночник впивается холод.
И вы думаете и размышляете, от чего идет этот холод, пронзающий спину ледяной иглой, – от пистолета, гвоздя или пузырька с кокаином. Но вам уже нельзя повернуться, потому что движения кончились, иссякли, как рука дающего, как колодец на пустоши, как содроганья любви.
И вы целый день едете по розовой пустыне на розовых двугорбых ангелах
с зелеными крыльями, на пластмассовых зверях, пьющих вазелин, – вы у себя дома.
Но вот встречает вас на дороге существо с черными крыльями, сатана с черным нимбом,
и вы слышите, как в воздухе поет
скрипка смерти и сладострастия.
Дьявол не выдумка, шайтан не слово, и он ходит как черный лев вокруг нас и рычит.
И рык его золотист и черен. И ползет он по пустыне, оставляя следы – черные письмена. Поэтому мы убьем льва-змея. Мы убьем его в обличии девы в белом крепдешине, и в обличии воина с розовыми глазами.
Мы убьем его в обличии человека в черном нимбе и в обличии зеленой волны. Мы убьем шайтана в обличии желтого ребенка и розовой куклы. Мы сломим ему шею заклятием, стрелой и пулей. Мы скормим его черным козлам с огненными рогами. И мы ввергнем его в дом его – ад.
Ибо мы воины, а не англичане. Ибо мы воины, а не дети. И мы убьем дьявола силой нашего белого духа, который вложен нам в спины.
Бам-бам-бам!
И они уточняют складки вашей одежды и хлопочут – ангелы-служители. И они припудривают щеки и завязывают, где надо, разошедшиеся шнурки и золотые тесемки.
Кочевники обыскали незнакомца, сперва принятого ими за Сатану, вывернули ему карманы, вынули, изучили и вновь вложили обратно записную книжку, кошелек, паспорт, веер с драконом и стали совещаться. Смолкли. Потом главный сказал короткое слово, которое проросло у него изо рта, словно маленький карликовый дуб. Из угла губ от этого потекла кровь и тут же запеклась на подбородке. Один из кочевников подошел к Соловьеву, достал нож, полоснул по веревкам на руках. Потом плюнул ему под ноги и хохотнул. Рожа его была черна, а зубы блестели. Правый глаз был синь, другой же зиял как погреб. Кочевники взобрались на верблюдов и исчезли. Скрип и голоса растаяли в воздухе, тонко посвистывал ветер, солнце заходило.
Внутри шедших в пустыню верблюдов, как в варежках, были растопырены пальцы столь вялые, что лишь два из них, а то и только один выдавался наружу горбами сквозь стертую кожу хребта. Но так казалось на первый взгляд. Потому что не вялы внутриверблюжьи пальцы – но сжаты, как и сам верблюд, в динамитный кулак.
Пустыня. (Подруга)
Послушайте, погодим про экшен, а скажем про то, как прекрасна жизнь. Вышел на кухню Шарманщик, человек запутавшийся и по его собственным меркам неосновательный, вышел выпить кофе и там увидал, как распустились на подоконнике натыканные в глиняный желтый кувшин третьего дня веточки – сливы, орешника, ивы и тополя. И что бы им распускаться у него на подоконнике, а вот же… Сияют робкими листочками, светятся на фоне серого весеннего неба за окном, вылущиваются зелеными венерами из небытия, неоформленности, из вчерашнего «ничего никогда не получится», словно высовывая на мерзкое уныние свои веселые изумрудные языки. А вчера их еще не было. И где они были вчера, кто скажет? В ветке? Но нет, там было что-то другое, а не зеленые листья. В соках, бегущих по веточкам, или в воде кувшина? Но и там их не было, потому что в соках и в воде кувшина, конечно, таилась возможность и условия им появиться на свет, но самих их там тоже не было. А может быть, они прежде были в голове Шарманщика, а потом взяли да и переселились на веточки, стоящие в воде? Как ни странно, но именно эта версия – самая близкая к правде. А сама правда заключается в том, что появились эти веточки точно из головы, но не только одного Шарманщика, но и Бога. И не только из их двух глупых голов появились они, но и выпорхнули из объятий смеющейся Софии Премудрости, той самой, которой на Руси строили самые первые, самые главные храмы.
Строили эти храмы давно, и до сих пор ходят в них молиться в Новгороде и в Киеве, а в Стамбуле тоже ходят, но уже не в христианский храм, а в переделанную под мечеть Святую Софию. Да, молятся в них до сих пор, но никто уж и не помнит, как следует, что это за название такое, София, и откуда оно взялось. Казалось бы, трудно забыть самую прекрасную, самую близкую деву на свете, любви которой ты принадлежишь, потому что ничего, кроме любви этой девы, тебе и не нужно, ан нет, случается. Случается, что забываешь ее щеки – розовые, глаза – синие, слова – колдовские, неизъяснимые. Забываешь, забываешь… И то, что плачешь от ее красоты, стоит только взглянуть, потому что на чудо такое смотреть без слез невозможно, и потому до сих пор еще живет и держится мир, на красоте и слезах от нее стоящий, и то что она всегда весела, и даже когда творила она мир, где все мы теперь живем, она веселилась и играла, – тоже забываешь. Вчера помнил, а сегодня взял и забыл. А только без этого – веточек зеленых, храмов да красоты несказанной, в душе твоей укрытой и спрятанной, – все равно тебе не прожить. Вот и не живет человек, а коптит небо да мучается. Вот едет он по Верхней Масловке на «Феррари», благоухая «Хьюго-Боссом», а с души-то его воротит, на душе-то его гнилостно да погано от всего, что с ним в жизни случилось. Вот так и едет он с развороченной как стог душой своей по улице Верхняя Масловка, пока не увидит среди раскиданных во дворе дома художников мраморных глыб – с пятачок травы. И тогда вылезет он из машины, подойдет к этому пятачку изумрудному и желтому между необтесанного холодного камня, сядет на него в своем пьере-кардене да и расплачется. Сидит, носом хлюпает, к фляжке прикладывается, а на душе-то у него уже запевают ангелы. Уже светлеет лоб его, и руки перестают дрожать. Всего-то и увидел он тень от пятки Софии Премудрости, а сразу же полегчало человеку. Вот и сидит он там и радуется до самого вечера.
А теперь уж, наверное, понятно, с какой подругой шел на свидание в пустыню философ Владимир Соловьев. А не сходи он тогда на свиданье в пески, не подставься тогда кочевым чудакам на верблюдах, не задремли после этого от усталости и тоски на мертвом песке, совсем на Руси забыли бы про деву Софию.
Он лежал на холодном песке в своем длинном плаще, подогнув коленки к животу и пытаясь согреться. Наверху сияли огромные словно стога звезды. Он пытался заснуть, но у него не получалось. И тогда он достал из кармана веер, раскрыл его и положил на него голову, как на наволочку. Было слышно, как воют шакалы. Потом он заплакал от разочарования, одиночества и холода. Он лежал и плакал. Плечи его вздрагивали, острые лопатки тряслись, словно он ехал на телеге по ухабам, цилиндр откатился в сторону. В бороду набился песок, длинные ноги в носках торчали из задравшихся штанин. Он попытался вспомнить детство, университетскую церковь святой Татианы, беготню и забавы на прудах в Покровском-Стрешневе. Но все это было теперь далеко, и все это было лишним, чужим, неглавным. Главным было ощущение мерзнущего от песка тела, его уязвимости, нелепости, хрупкости. Он почувствовал, какие у него острые коленки, какие длинные и слабые руки, как ходит кадык под кожей и пересыхает от жажды язык. И непонятно было, для чего эти руки так длинны и нелепы и что ими делать сейчас в этой огромной пустыне под этим сияющим морозным небом, полным огней, – разве что сжимать и разжимать кулаки. Но от этого все становилось еще более нелепым и непонятным. Тысячи мерзлых песчинок двигались по ним, раздвигаясь и сходясь. И в теле его тысячи горячих клеточек делали какую-то живую и осмысленную работу, точно так же как что-то делалось там, наверху, между горящими в небе звездами. Клеточки эти подавали друг дружке сигналы, учили одна другую, как выжить на этом холодном песке, как согреть друг друга, как спасти это туловище, эти руки и эти длинные неуклюжие ноги. Он никогда раньше не замечал, какое у него смешное, лишнее тело, как оно ему не нужно, как некрасиво. Внезапно ему стало обидно, что он всю жизнь так и прожил в этом непослушном и некрасивом теле. И вот теперь оно лежит, распластавшись на песке, и ничего не значит. И он сейчас тоже ничего не значит, пока он и есть это тело, бледное, жалкое, беспомощное, грозящее вот-вот расслоится и размельчится на мириады звездочек-песчинок. Может быть, что-то и значило небо над его головой, или то, что от песка было холодно и жестко, или, к примеру, вся его до этого произошедшая жизнь, но тело его сейчас не значило ничего. Оно было мокро, холодно и бессмысленно. Оно не входило ни в песок, ни в небо, ни в него самого. И тем более было странно и обидно, что, кроме него, его тела, ему ничего и не осталось. Что сейчас надо было бы найти во всей его суставчатой огромности маленький уголок изнутри, где оно хоть что-то бы означало, хоть какой-то смысл. Но, сколько он ни бился, такого уголка не находилось. И он застонал сквозь сон и почувствовал, как от него метнулась прочь смутная тень, от которой сильно разило псиной. Шакал понял, что человек жив, отпрыгнул, изогнувшись и ощеряясь, пропал за холмом. Пустыня мерцала в звездном свете призрачным неровным огнем. Сухой куст, облитый этим светом, на миг показался ему похожим на деревенского почтальона, но он тут же понял, что ошибся. Он снова закрыл глаза и забылся.
И тогда тихо-тихо застучали ангельские барабаны оркестра и заиграла флейта у правого заднего столба сцены.
Очами, полными лазурного огня…
Человек на земле оставался неподвижным все утро. Он лежал без движений в темноте под звездами. Он не переменил положения, когда выпал утренний иней. И даже тогда, когда, начиная с востока, звезды стали медленно меркнуть и заваливаться в пожар рассвета, он не шевельнулся. Он лежал на боку, подложив под голову руки, недалеко от валявшегося на земле зеленого веера и не двигался. Лишь у приоткрытых губ с сухой старческой морщинкой на верхней, скрытой усами, появлялись и исчезали бесшумные облачка пара. Вокруг, сколько хватало взгляда, разбегались волны и холмы песка. В розовых низких лучах они стали терять свой неверный звездный отблеск, выцветая и словно неуловимо подрагивая. Все больше они становились серо-белесыми и словно вымазанными малиновым желе. Было тихо в пустыне, и ни один звук не долетал сюда. И каждое малое движение было теперь подобно грохоту и любой шепот – обвалу водопада. Поэтому все остальное мог бы рассказать только хор, в котором герой умножился и усилился, пребывая по-прежнему спящим и даже на первый взгляд бездыханным. И именно хор поведал о том, что веер, лежащий на песке, теперь символизировал высшую степень просветленности и от этого подрагивал и потрескивал, пропуская сквозь себя все три мира. Именно хор сказал-спел, что лишь в низкой реальности можно было увидеть спящего и неподвижного человека на земле, а на самом деле было не так. На самом деле глаза человека были открыты и из них словно били невидимые, как горящий спирт на солнце, зрячие струи бесконечного зрения, обволакивая вселенную, галактики, звезды и землю с ее морями, хребтами гор, равнинами, пустынями и никому не видимым телом, лежащим на песке одной из них. Живая и умная пустота этого зрения и принадлежала простертому на песке человеку, и не принадлежала ему. Она и существовала, и не существовала, она исходила от человека и в то же самое время нисходила к нему как подарок. И исходила она не столько из глаз, сколько из переносицы и сердца.
Ничего не изменилось, кроме того, что могло изменить своим светом медленно встающее и набирающее силы солнце – в цвете, яркости, в объеме. Не изменились желтые барханы и не сдвинулась этим утром с места ни одна песчинка, не изменились морщинистые лапки ящериц и их обычные маршруты по холодному еще песку, не расцвела ни одна сухая ветка, и тот оркестр, что тихо сейчас ведет мелодию флейты и барабана, не изменился тоже. Да и как он мог измениться, если на самом деле и не понять, то ли есть он на самом деле здесь, в пустыне, то ли его и вовсе нет. То ли пустыня окружает его, то ли сама она вся вышла из этой музыки и движений актера и барабанщика, из этого веера и этого резкого удара босой ноги в настил сцены с подвешенным внизу на проволоке полым кувшином-резонатором, превращающим дрожь ресницы в удар грома. И тогда певец из хора пропел на языке, который еще не наступил на земле, несколько фраз, а потом пропел их еще раз, уже на русском:
И я уснул, когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.
И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными небесного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор…
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты…
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне – одна лишь ты.
Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.