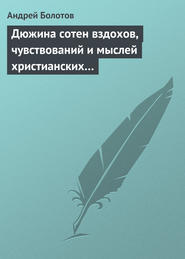По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и приключения Андрея Болотова. Описанные самим им для своих потомков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но правду сказать, и было о чем ей тужить и горевать. Со вскрытием весны приближался и срок мой, и был так уже недалек, что надлежало меня в скорости и отправлять, а у нас не сделано было к тому никаких приуготовлений; к тому ж и не было еще слуги, с которым бы мне ехать, ибо у нас на одного его была и надежда, и Богу известно, что с ним сделалось.
Наконец наступила уже и страстная суббота. Поелику приходская церковь была от нас не близко, версты две и притом за рекою, то издревле было у наших предков обыкновение езжать к церкви накануне еще праздника и ночь сию ночевать там у попов, дабы избежать беспокойства ехать ночью и поспевать к заутрени. Мы поехали туда не с радостными сердцами, и самый праздник терял все свои для нас прелестности. Мы взяли квартиру себе в доме отца Илариона, и мать моя не преминула еще и в сей вечер поплакать и погоревать.
В таковом же беспокойствии душевном были мы и во все продолжение служения на праздник заутрени. По окончании оной возвратились мы на свою квартиру и легли уснуть еще несколько до обедни; но не успели мы заснуть, как прибежали к нам нас будить и сообщать нам радостное известие, что Артамон наш приехал. Боже мой, какая началась у нас тогда радость и какие благодарения Богу! Я отроду моего не помню, чтоб когда-нибудь просыпался я с такою радостью и восхищением сердечным, как в тогдашнее утро. Я бежал к матери моей, а она меня искала и от радости плакала.
– Ну, слава Богу! – повторяла она сто раз и не могла порядочно ни о чем приезжего расспрашивать.
Наша радость и удовольствия увеличились еще больше, когда услышали от него, что езда его была не по-пустому, что комиссию, порученную ему, исправил он с вожделеннейшим успехом, что по долговременным хлопотам и многим трудам удалось ему наконец Военную коллегию упросить, чтоб меня для окончания наук отпустили до шестнадцатилетнего возраста и что, наконец, привез он с собою и указ, данный мне о том.
Таковым неожиданным успехом мать моя довольно заплачена была за все свои горести и печали. Она рада была до бесконечности, что я на столько времени был уволен, и не знала, как и чем возблагодарить слугу за его труды и старание.
Сие происшествие сделало нам всю святую неделю вдвое радостнейшею и веселейшею. Вышеупомянутые старички, родственники наши, не преминули к родительнице моей съехаться и разделить с нею ее радость. Что касается до меня, то была неделя сия в особливости мне весела. Катание красных яиц и качание на качелях, а притом и возможность ходить уже всюду и предпринимать с ребятишками разные игры и резвости, меня до крайности утешало и веселило. Петербургский мой дядя г. Арсеньев, помогший много нам в сем деле, хотя и писал к матери моей, что как я отпущен для окончания наук, то не держала б она меня при себе, но чем скорее, тем лучше присылала б к нему, и что он место для продолжения наук мне сыщет. Однако мать моя никак не хотела меня прежде от себя отпустить, как на предбудущую зиму, и как я к деревенской жизни уже привык, то намерение ее было мне в особливости приятно.
Не успели первые чувствования радости пройтить и мы несколько недель препроводить в совершенном спокойствии и тишине, как новая буря встревожила покой всего нашего дома и погрузила опять мать мою в новую бездну горестей и печалей.
Некто из соседей наших воздвиг оную на нас и подал повод матери моей пролить тысячи потоков слез по сему делу. Он подал на нас исковую челобитную и отыскивал одну беглую свою бабу, живущую у нас в Шадской нашей и отдаленнейшей из всех деревне и бывшую уже многие годы замужем за одним мужиком нашим. Обстоятельства сего мать моя не знала до самого того времени, как подана сия челобитная, ибо, как произошло сие в такое время, когда родители мои находились при полку, и мужик женился сам собою и за многие уже годы, в деревне же сей родителям моим никогда бывать не случалось, то и не знали они о том ничего и не ведали. Но соседу нашему было все сие известно, но покуда родитель мой был жив, то не отваживался он тогда просить; но как он скончался, мать же моя была слаба, а я мал и безгласен, то и задумал он сими обстоятельствами воспользоваться и напасть на нас наисуровейшим образом.
Матери моей тем несноснее было сие дело, что человек сей был родителем моим до бесконечности одолжен. Рода был он подьяческого и каким-то образом попал в такую беду, что надлежало его кнутом высечь и сослать на каторгу, что и учинено б было тогда, если б родителю моему не удалось каким-то образом от того его избавить. Итак, не смея при жизни его, от затирания совести, ничего предпринимать, вздумал тогда, в благодарность за таковое благодеяние, напасть на оставшуюся его беззащитную вдову и на осиротевшего и малолетнего сына и стараться бессовестнейшим образом разорить их до основания.
Неблагодарного и гнусного человека сего звали Васильем Васильевичем Кирьяковым; он имел тогда в самой близости от нас небольшую деревеньку, купленную им каким-то образом, и участие в самых наших дачах. Будучи весь свой почти век подьячим, знал он все приказные дела из основания и, стекавшись с воеводою нашего города, подал на нас самую ябедническую исковую челобитную и искал на нас превеликого иска.
Не могу вспомнить с спокойным духом того случая, как приехала к нам из города посылка с призывом матери моей к ответу в город; неожидаемость и нечаянность такового происшествия поразила ее власно как громовым ударом. Она не знала, что делать и что начать при деле, толико ей необыкновенном, и погрузилась не только в превеликую горесть, но и самое малодушие.
Находясь в наивеличайшем нестроении, призвала она нашего Артамона и требовала совета. Но сей, хотя и разумел довольно грамоту, но, не упражняясь никогда в таких делах сего рода, не знал и сам, что присоветовать. Не к кому было тогда иному взять прибежище, как к отцу Илариону. Тотчас отправлен был к нему нарочный, и он пришед подкрепил сколько-нибудь мать мою, сказав, что посылка сия не составляет еще дальней важности, что надобно дождаться второй и третьей, а между тем послать в город человека и стараться списать челобитную, чтоб узнать все дело обстоятельнее. Как он советовал, так было и сделано: Артамон наш на другой же день поехал в Каширу и чрез несколько дней привез к нам челобитную.
Тогда созван был матерью моею общественный совет: отец Иларион, вышеупомянутый родственник ее, Сила Борисович Бакеев, яко человек, знающий довольно законы, и Артамон, произведенный тогда в стряпчие и поверенные, были членами сего совета. Все они читали и рассматривали челобитную и рассуждали об ней очень долго. Наконец, все единогласно сказали, что дело наше дурно, что челобитчик имеет с своей стороны требование справедливейшее, и что нам ничем себя оправдать и просьбу его оспорить не можно, и что ежели допустить до суда, то мы верно потеряем и принуждены будем заплатить ему весь его страшный иск.
Таковое изречение сего совета не служило матери моей к отраде, но повергло ее еще в вящую печаль. Наконец, при вопрошении, что ж бы при таковых обстоятельствах делать и чем себе сколько-нибудь помочь, все единогласно говорили, что другого не остается, как стараться дело сие сколько-нибудь продлить, а между тем испытать, не можно ли соперника нашего преклонить к полюбовному в сем деле с нами примирению, и не удастся ли убедить его взять сколько-нибудь с нас меньше, нежели сколько он требовал.
Между тем, как сие тут происходило, соперник наш работал в Кашире и старался кутить и юрить сим делом. Не только воевода, но и все подьячие были ему друзья и братья; всех он закупил и задобрил, и все держали его сторону. Он тотчас выпросил другую за нами, а вскоре потом и третью посылку.
Таковая поспешность и недавание нам покоя привели мать мою еще в пущую расстройку. Надлежало что-нибудь делать, и буде мириться, то к сопернику кого-нибудь засылать; но она не знала, к кому в сем случае и прибежище взять. О, сколько слез пролито было по сему делу и сколько вздохов испущено на небо! Наконец присоветовали ей самой ехать в Каширу и просить воеводу, чтоб взять сколько-нибудь терпение. Что было делать? Она хотя слаба была здоровьем, но, несмотря на всю слабость, принуждена была туда со мной ехать. Мы заезжали по дороге к советнику нашему г. Бакееву.
Тут начались опять советы, но, к несчастию, дело было так дурно, что все законы были против нас и ничем присоветовать было не можно. По крайней мере упросили мы его, чтоб он поехал с нами. Воевода, державший почти въявь сторону нашего соперника, принял нас весьма гордо и несговорчиво, матери моей было сие несносно, однако она принуждена была повиноваться времени. Некоторые подарки, отосланные к сему градоначальнику, сделали его несколько благосклоннейшим; он обещал не только продлить дело, что ему всего легче учинить было можно, но и постараться преклонить соперника нашего к миру. Но сие не так могло скоро сделаться, как мы думали и уповали; мы принуждены были прожить в Кашире более недели. В сие время, к превеликому огорчению нашему, узнали мы, что соперник наш еще кичился и гордился и об мире слышать не хотел или, по крайней мере, хотел, чтоб мы заплатили ему огромную сумму. Подозревали, что сам воевода вместе с ним шильничал и его наущал, дабы ему самому тем более от нас и от него поживиться было можно. Сказали матери моей, что есть некто из живущих неподалеку от Каширы дворян, по имени Иван Алексеевич Ильин, человек сопернику нашему знакомый, но весьма добрый и хороший, и советовали съездить к нему и упросить его, чтоб вступил в посредники и миротворители. Дворянин сей был нам совсем незнаком; но что делать? Мать моя, утесняема будучи крайностью, принуждена была к нему со мною ехать. Г. Ильин принял нас нарочито холодно; однако, по умолению матери моей, обещался вступить в посредство и уговаривать нашего соперника. Однако, как все сие не могло скоро совершиться, то мы принуждены были, ничего не сделав, возвратиться в деревню, а оставили только стараться и хлопотать по сему делу нашего поверенного.
Горестное сие для нас дело продлилось большую половину лета и почти по самую осень. Сколько это было взад и вперед посылок и переездов и сколько пролито слез! Но наконец, кончилось действительно миротворением. Соперника нашего кое-как уговорили помириться, и мы принуждены были согласиться отдать ему не только его беглую женку, но вкупе с ее мужем и со всеми детьми и двором, в котором она жила, и перевесть его на своем коште в его деревню, а сверх того заплатить ему еще 800 рублей деньгами. Убыток сей был для нас хотя весьма чувствителен, а особливо потому, что толикого числа денег мать моя в наличности не имела, но принуждена была для выручения оных распродать и последние пожитки и вещи отца моего, а некоторое количество еще и призанять. Но мать моя, сколько ей все сие несносно было, рада была по крайней мере тому, что от врага своего избавилась. Для заключения сего мира принуждена была еще раз со мною в Каширу ездить и еще раз мучиться. Но как бы то ни было, но дело сие наконец кончено, и мы, удовольствовав своего злодея, возвратились в деревню и начали жить по-прежнему в тишине и спокойствии.
Теперь, не ходя далее, надобно мне заметить, что сопернику нашему не пошли впрок наши деньги и люди. На него на самого случились вскоре потом какие-то напасти, а что всего паче, то судьба поразила его тяжкою и долговременною болезнью, и он в до-стальные годы своей жизни влачил дни свои в жалком состоянии. Наконец, не имея детей мужского пола, лишился он и своей деревнишки; она перешла из рук в руки и досталась ныне г. Агаркову, а его имя и память погибли совсем с шумом из пределов наших.
Между тем, как все сие происходило, продолжал я прежние мои упражнения, однако с наступлением лета прилежность моя была далеко уж не такова, как прежде. Частые выхождения в сады, на двор, в рощи и на пруды отвлекли меня от учения, а сообщество с одними только ребятишками поразвратило гораздо прежнее мое постоянство и благонравие. Они приучили меня ко всяким играм, к беганью и резвостям, из которых были иные нимало с прежним моим характером несообразные и подвергающие меня иногда самым опасностям. Все эти беспутные упражнения скоро я так полюбил, что за ними мало-помалу начал отставать от своих прежних дел и заниматься ими большую часть времени.
Сие не могло укрыться от глаз моей родительницы; она любила меня хотя чрезвычайно и охотно дозволяла мне иногда погулять и порезвиться, однако неумеренность в том и теряние на то слишком много времени было ей весьма неприятно и подавало нередко повод ей к неудовольствиям и досадам на меня. Скоро исчезли уже все прежние мне похвалы и всем моим делам одобрения, но она начала меня уже и побранивать и неволею заставлять сидеть и учиться. Нередко стало случаться, что она, поставив меня в ногах у своей кровати, предпринимала меня всячески тазать[71 - Журить, бранить, бить, таскать за виски.] и продолжала иногда тазание таковое с целый час времени. Все сие, а особливо тазание ее, были мне весьма неприятны; я хотел бы лучше высечен быть розгами, нежели выслушивать таковые ее предики[72 - Наставления, выговоры.] и нравоучения. Но что было делать? Я принужден был повиноваться ее воле и переносить гнев ее терпеливо, ибо признаться надобно, что сколько я ее любил, столько ж и боялся. Человек была она очень нравный, могла легко подвергнута быть на гнев, и в сем случае должны были все молчать и повиноваться ее воле.
Со всем тем все ее тазания не великое производили во мне действие. Привыкнувши однажды к резвостям и получивши в них вкус, не так легко мог я отстать от оных; я продолжал оные, но старался более уже утаивать и скрывать от матери мои шалости. Но иногда их скрыть было не можно, как, например, однажды, как не лежала она на своей постели, а была в моей комнате и молилась Богу, играл и резвился я на ее постели с любимою ее кошкою. Тут пришло мне в голову спрятать ее под одеяло, чтоб повеселиться ее под ним ворчанием, а потом предпринял я еще того глупейшее дело: я, схватя претолстую палку и хотя ее тем испужать, ударил по одеялу. Но несчастие мое хотело, чтоб я ударом сим ошибся: вместо того, чтоб по намерению моему ударить подле самой ей и в пустое место, попади я прямо в нее и по самой голове оной. Бедная кошка подняла преужасный крик и через минуту от того околела. Господи помилуй, какая поднялась тогда на меня гроза и буря от моей матери! Мне кошки сей было хотя столько ж жаль, сколько ей, ибо любил и я ее не меньше, как и она, и дело сие произошло хотя от нечаянности и я сам по кошке плакал, но статочное ли дело, чтоб принять что-нибудь в уважение? Я принужден был с битый час вы-терпливать ее брани и тазания и пребывать дни с три под ее гневом.
В другой раз довел я резвостьми своими ее до того, что чуть было она меня совсем не высекла, но правду сказать, и было за что. Находился у нас в доме взятый на воспитание один солдатский сын, пребеглая и пребойкая особа. Он был наилучший мой в резвостях сотоварищ и всему злу заводчик и производитель. Вышедши однажды за вороты на улицу, увидел я сего вертопрашного малого, стоящего подле пруда, на самом краю возвышенного и крутого берега и ко мне спиною, и тогда приди Kg мне что-то в голову подкраться к нему и столкнуть его с берега в воду. Хотелось мне его только обмочить и посмеяться, ибо ведал, что он, по умению своему плавать, утонуть никак не мог. Но Что же воспоследовало? Не успел я к нему подкрасться и, собрав все силы, толкнуть, как проклятый он, по проворству своему, отвернулся, а я с размаху полетел с берега сам в воду. Не умея совсем плавать, и по глубине сего места в пруде, чистехонько мог бы я тогда утонуть, ибо я весь окунулся и поплыла только моя шляпа, если б сама судьба не захотела и на сей раз спасти жизнь мою, и власно как нарочно сделала то, что на самый тот раз случилось в самой близости от того места несколько баб, моющих на примостках платье; они, увидев сие, бросились и вытащили меня из воды.
Не успел я от страха и испуга, учиненного сим падением, опамятоваться и приттить в себя, как напало на меня превеликое горе. Вода текла с меня ручьями, не осталось ни одной сухой нитки на всем моем платье. Что было делать? Как иттить в таком наряде домой и показаться матери? Чего и чего не должен я ожидать за сие от ее строптивого нрава? Наконец присоветовали мне бабы послать скорее за другим и сухим платьем, и переодеться, и через самое то скрыть происшествие сие от моей родительницы. Совет был благ, я его тотчас исполнил; но мне не удалось воспользоваться его плодами: мать моя прежде о том сведала, нежели я думал и ожидал. Бездельница одна маленькая девчонка, случившаяся тогда на улице, как я упал в воду, увидев сие, благим матом[73 - Во всю прыть, изо всех сил. У нас осталось «кричать благим матом».] побежала в хоромы и рассказала все дело находящимся там женщинам и старушкам. Мать моя вслушалась в нечаянный разговор их и принудила запирающихся их в том пересказать себе все, девчонкою им сказанное, и, услышав, что я упал в пруд, обмерла, испужалась, ибо сочла меня уже погибшим и утопшим. В отчаянии не знала она, что делать, и не довольствуясь тем, что отправила не только послов одного за другим для точнейшего обо мне расповедания, встала сама с постели и хотела иттить на пруд, но по счастью, вышедшую ее из хоромов первые посланные останавливают и, обрадовав уведомлением, что я жив, рассказывают в подробности все происшествие. Тогда страх и отчаяние ее переменились в превеликий на меня гнев и досаду; она положила неотменно меня за сие высечь и велела принесть и приготовить хорошие уже розги.
Вскоре потом привели и меня, раба божья, к ней. Я обмер, испужался, как услышал, что мать моя обо всем уже ведала, и за верное полагал, что меня высекут.
– Поди-ка сюда! Поди, дружок! – закричала мать моя, меня завидев.
Но я, не дав ей более говорить, повалился ей прямо в ноги и говорил только:
– Виноват, матушка! Что хотите со мной делайте! Случилось сие нечаянно, и я сам тому не рад.
Она, не внимая моим словам, схватила уже розги и хотела сечь, но я, схватив ее руку, целовал оную и обливал слезами, прося об отпущении вины моей и о помиловании, заклиная себя, что впредь того делать не стану. Все сие умягчило наконец гнев ее, она не стала меня сечь, но предику принужден я был вытерпеть преужасную, а сверх того не дозволено мне было несколько дней сходить с места, и я должен был беспрестанно учиться, покуда наконец сжалилась она надо мной и дозволила сама выходить на двор, взяв только с меня клятву, чтоб я все таковые беспутства оставил.
Несколько недель после того случилась со мною третья бедушка, но от которой, против чаяния моего, я удачно отделался. Был у меня нарочно сделан маленький и преострый топорик, им рубливал и тесывал я, во время резвостей моих, что ни попало. Ходючи однажды с ним и вышед на улицу, увидел я, что плотники у нас рубили сруб на избу. Легкомыслие мое внушило мне охоту пойтить к ним и помогать им рубить своим топориком; но как сидели они на срубе высоко и мне к ним взлезть было не можно, то, увидев лежащий подле сруба на земле один обрубок от бревна, начал я над ним по-своему плотничать. Несколько минут рубил я все хорошо и порядочно, но один удар топором был весьма неудачен: топор каким-то образом с конца обрубка, который я сглаживал, соскользнулся и попал мне прямо в правую ногу, в самое то место, где пускают обыкновенно кровь из ноги. Весь узг[74 - Угол, нижний конец топора.] топора ушел у меня в башмак и произвел рану в полвершка величиною, и я истинно не знаю, как не пересек я жилы и не испортил тем совсем ноги. Но видно, что судьба хотела меня и в сем случае спасти: удар пришелся вдоль по жилам и между оных и не повредил ни жилы, ни кости. Но мое великое счастие было то, что рубил я в сей раз одною, а не обеими руками и не в размах.
Но как бы то ни было, учинив сие, обмер я и испужался. По счастию, не видал сего никто: плотники сидели на срубе и продолжали свою работу. Я, приметив сие, положил возможнейшим образом стараться скрыть сие дело и как можно не допустить до сведения моей матери, чего ради, удержавшись от крика и вопля, схватил я с находившейся подле самого того места дороги несколько густой грязи и, замазав ею все просеченное на башмаке место, побежал в хоромы. Но кровь, силящаяся из раны, на половине дороги отбила всю мою замазку; я, приметив сие, пустился прямо мимо хором на огород. Тут, не будучи никем видим, залепил и умазал я вновь свой башмак, как хотел, землею, и как увидел, что кровь не стала более отбивать землю, то пошел в хоромы, сел за свои книги и не сходил до самого вечера уже с места. До сего времени ни одна жадная душа не ведала о сем происшествии, но как наступил вечер и надобно было мне раздеваться, то по необходимости должен я был открыться моему камердинеру. Был тогда оным у меня малый по имени Дмитрий, и самый тот, который ныне у нас портным. Я взял с него клятву, чтоб он никому не сказал, и рассказал потом свое несчастие. Тогда оба мы начали заботиться о том, как нам скинуть башмак и чулок с ноги. Мы не инако думали, что моя нога опухла; однако сколь велико удивление мое было, когда, при скидывании башмака и чулка, не чувствовал я почти никакой боли, а того еще больше удивился я, когда увидел, что рала моя была хотя превеликая, но вся наполнена власно как новым телом. Сколь я тогда еще ни мал был, но, увидев такое странное явление, заключал, что, конечно, произвели сие действие земля и грязь, которою я без всякого умысла рану свою замазывал, и после открылось, что я в мнении своем нимало не обманулся; ибо, как заметив сие тогда ж, начал я в последующее время пробовать лечить всякие свежие раны землею, то увидел и чрез бесчисленные опыты над собою и над другими удостоверился, что земля залечивает все свежие раны лучше и скорее всех пластырей на свете, а нужно только, чтоб она была не сухая, а смоченная и смятая наподобие теста.
На другой день вставши и надев башмак, хотя и чувствовал я небольшую боль, принуждающую меня несколько хромать, однако боль была так мала, что хромание мое было почти вовсе неприметно. Однако боясь, чтоб каким-нибудь образом мать моя оного не приметила, решил я весь тот день сидеть и, не сходя с места, упражняться в чтении и писании. Сначала было матери моей сие совсем неприметно; но как я таким же образом и весь последующий, а там и третий день сидел беспрестанно за книгами, то показалось матери моей сие странно и удивительно.
– Что ты, Андрюшенька, – говорила она мне, – вдруг таков прилежен стал и который уже день никуда не выйдешь погулять себе?
– Не хочется что-то, матушка, – ответствовал я, – а к тому же давно не твердил своих наук и боюсь, чтоб не позабыть оных.
– Это очень хорошо, дитя мое, – сказала она на сие, – однако все погулять бы сколь-нибудь можно.
Что было тогда делать? Я принужден был встать и иттить в сад. Но по счастию, рана моя в сии три дня совсем почти зажила, и я мог уже ходить тогда не хромаючи.
Сим образом кончилось тогда сие происшествие, и родительница моя не узнала об оном по свою кончину.
Что касается до прочих в сие лето бывших происшествий, то помню я только два, некоторого замечания достойных. Первое состояло в том, что мать моя однажды ездила со мною для богомоления за Серпухов к Рышковской Богородице, в котором путешествии сопутствовал и отец Иларион, верхом на своем коне. А второе гораздо было важнее и состояло в том, что родительница моя нечаянным образом вывихнула у себя ногу, в самой нижней щиколке, и так, что ее исправить было никак не можно.
Случилось сие при особливом случае. Каким-то образом, я не помню уже зачем, вздумалось живущему подле нас дяде моему родному удостоить нас своим посещением. Мать моя на самую ту пору сошла только с своей кровати и хотела войтить в мою спальню, но лишь только переступила она одною ногою через порог, как прибежали к ней без души сказать, что идет Матвей Петрович и уже входит в хоромы. Неожиданность такого известия и обстоятельство, что была она совсем не одета, так ее перетревожило, что она второпях как-то вдруг и скоро обернулась назад, спеша приттить скорее на кровать, и в самую сию несчастную секунду повредила себе ногу.
Как сначала боль была невелика и сносна, то думали, что сие пройдет само собою, однако в мнении сем все обманулись: боль начала со дня на день увеличиваться и мать мою обеспокоивать от часу больше. Принуждено было ее править, но как и сие не помогало, то лечить всем, кто что знал. Но сколько ни лечили, но не произвели никакой пользы, а окончилось сие тем, что родительнице моей не можно уже было по самую кончину свою одевать на ту ногу башмак, но она принуждена была приказать сшить из войлока некоторый род просторной туфли и в оной уже хаживала, когда ей с постели своей сходить надлежало.
Между всеми сими происшествиями прошло, наконец, лето, наступила осень, и приближалась зима. Матери моей сколько ни не хотелось, по болезни своей, меня от себя отлучить, однако она заключала, что я, живучи при ней, совсем исшалюсь и избалуюсь и не только не выучу ничего вновь, но и все выученное позабуду, и имела столько духу, что решилась отправить меня в Петербург, как скоро зимний путь настанет, и потому заблаговременно уже делала все нужные к тому приуготовления. Сопутником мне назначен был дядька мой Артамон и еще один молодой малый по имени Яков; лошадей же велено было нанять от Москвы до Петербурга.
Как скоро зимний путь настал, то родительница моя не стала медлить ни одного дня, но, собрав меня совсем и снабдив всем нужным на дорогу и для петербургского житья, собрала всех своих родственников и, предав покровительству небес, меня в путь мой отпустила.
Расставание у нас с нею было наинежнейшее. Она обливала меня слезами и целовала в лоб, в глаза, в щеки и в губы; я плакал не меньше оной и целовал у ней обе руки. Все бывшие при том присоединяли слезы свои к нашим, ибо никто не мог утерпеть, чтоб не плакать. Наконец, благословив меня образом и надавав тысячу благословений и еще раз меня расцеловав и обмочив своими слезами, простилась она и отпустила. Увы! Сие было в последний раз, что она меня, а я ее видел. Минута сия толико мне памятна, что и поныне наиживейшим образом впечатлен в уме моем ее образ и тогдашнее расставание.
Сим окончу я мое теперешнее письмо, а в последующем расскажу о своем путешествии и петербургской жизни; я есмь и прочая.
Приезд в Петербург
Письмо 17-е
Любезный приятель! Приступая к описанию путешествия моего и петербургской жизни, о первом скажу, что мне все оное почти двумя словами описать можно. Мы приехали в Москву благополучно; а тут, отпустив своих лошадей в деревню, а сами, наняв ямских, пустились далее, и как дорога была хорошая и можно было верст по 80 на день ехать, то доехали мы до Петербурга скоро и благополучно. Не было с нами во всю дорогу ни одного такого приключения, которое бы достойно замечено быть, а старанием дядьки моего был и я всем доволен.
Что принадлежит до второй, то есть до петербургской жизни, то найдется многое кой-что, о чем пересказать вам можно.
Как мы адресованы были к дяде моему Тарасу Ивановичу Арсеньеву, служившему еще и тогда ротмистром в конной гвардии и жившему сего полку в светлицах, то и приехали мы прямо к нему. Дядя мой давно уже меня дожидался, ибо писал уже несколько раз к матери моей, чтоб меня присылала и что у него уже есть место на примете, где б мне учиться.