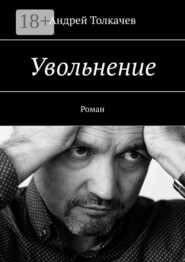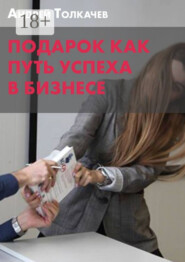По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Поверья заброшенной деревни. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После поездки за клюквой еще раз довелось мне там ехать, дорога шла от села Биаза в село Ургуль, через деревню «Веселая». Дома в бурьяне. Дорога заросла осокой, но колея днем проглядывала.
Человек показался. Подумали, лесник. Остановились. Я спрыгнул. Пошел по колее. Как объяснить, не знаю, наткнулся на деревянную свистульку. Потемневшая от времени, с отверстиями, забитыми землей. Подумалось, это все, что осталось от деревни. А кто обронил безделушку? А Бог его знает! И человека не видно.
В Ургуле спросил, не видели, мол, бобыля – как же, говорят, живет такой в лесу. Выходило так, что только терялся след бобыля, как опять появлялся, во всех историях.
6.Нежданные письма
После публикации рассказа в своем блоге я получил два письма от незнакомых людей.
«Километрах в 8 от деревни «Веселая» есть заброшенный заросший Бобылев пруд. Там лет триста назад одинокий мужик жил. Байки были, вроде пруд сам в одиночку он сделал – нереально представить как это, пруд размером с два футбольных поля. В 19 веке, как вспоминала прабабка, опять пошли разговоры про мужика, живущего в том доме.
Кто в лесу оказывался в непогоду или прятался от жандармов, заходил в избушку, и всегда так все выглядело что живут там да только вышли. Даже печь теплой и золу в печке иногда обнаруживали. Потом его домик был летним станом для пастухов. В советское время домик сожгли, говорили на районное начальство, зачастившее в те места на охоту. После пожара охота у всех пропала. Да повешенных находить стали, то участкового, то колхозного зоотехника. Неспроста, был в этом след бобыля, был.
Заново избу его так и не отстроили – а кому надо? … Последний раз был на Бобылевом пруду года три назад – место, где дом был, сплошь перекопано «городскими крысами» – черными копателями. Что искали – не понять, не барин вроде жил.
Кругом деревень вымерло – не счесть, и не копают там, а тут яму вырыли как под фундамент многоэтажки. Теперь времена пошли – никто никого не помнит. Но вот одинокого бобыля память сохранила, нет-нет, да кто-то начинает утверждать: видел мол, бобыля в лесу. Спросят: да с чего ты взял, что бобыль, коли жил он триста лет назад. Дураки же вы все – смеется рассказчик – и начинает описывать бобыля точь в точь как по рассказам стариков. Во как!
А его пруд даже на картах указан. Наверное раньше смеялись над ним, да только кто их теперь вспомнит, а его помнят».
И второе письмо.
«В Весёлой ещё живут. Несколько семей держат там огороды. За Ургуль гонят зимник, там идёт разведывательное бурение. А заимка человека, который выведен в статье под именем „бобыль“, была по верховьям Тары, за Остяцком. В 1977 году, ещё, он там жил. Потом, вроде ушёл дальше. А не говорил ни с кем, потому, как держался старой веры, и был у него такой обет».
Вот она, глухомань сибирская. Разные люди в разных селах вспоминают одного и того человека, – выходит, живет он по их поверьям по сей день.
Ночевка на покосе, у заброшенной деревни «Колыбелька»
…Во время покоса каждую субботу тарахтели мы на мотоцикле мимо одной заброшенной деревни. Изгороди завалены, дома покосились, из бурьянов крыши с побитым шифером, да пустые окна. Покосы там, как водится, были загодя разобраны, и только в одном месте никто косить не хотел.
Мимо заброшек надо ехать без остановок – у «деревенских» не принято на такие дома зыркать глазами, а тем паче подходить. Все держится на приметах, какой бы не была вера человека.
Деревенский люд объяснял это по—простому: —Не—че—го (покрепче слово тут было, конечно, но применю политкорректность) там делать. От Колыбельки (название деревни) держитесь подальше (хотя из—за одного названия соваться туда не хотелось). И покос свой бросайте. Сколько случаев было, когда люди терялись. Короче, Гнилое место.
А потом, железобетонный аргумент на тот случай, ежели ты еще «сумневался»: —У нас, в Северном, есть кто оттудова? Нет! А куда все подевались? Тот—то же.
…В дожди вообще—то носу не совали, а когда стояла сушь проезжали осторожно – и лужу бочком, и поскользить для почтения в энтой самой луже.
Лужа – это для лета постоянная переменная (извиняюсь, что термин украл у математиков). Никакая жара ее не смущает. Перед каждой серьезной лужей покидаешь свой транспорт. Мотоциклист делает попытку проскочить по ее маслянистому боку, если неудача – всем народом наваливаешься, толкаешь сзади и ловишь на одежду ошметки грязи. А на подъезде к покосу слазили с мотоцикла и в прямом смысле слова тащили его по насыпи между «заброшкой» и болотом.
А что с деревней не так? Отговорки у старых людей были одни и те же: «Ворожба там гуляет, как бездомная собака», «Место проклятое», «Колодцы заговоренные», «Образа наказанные».
Но от ночевки в лесу не уйдешь. Романтики, правда, не было никакой. Сибирский, таежный лес ночью, в краю Васюганских болот – это бродячее зверье и кусачее комарье, это симфония криков и стонов, от которых мороз по коже. Мы без ружья и без палатки. А потому, наше оружие – грабли, да топор, да мазь от комаров. Но дело не в этом.
Деревня Колыбелька…, как сказать, не знаю, нарядная такая была… Все заброшки дряхлые, сирые и убогие, а эта, целехонькая стояла, и ни краска не облезет, ни шиферина с крыши не упадет. Да и название у нее странное – «Колыбелька». Люди объясняли так: образовалась она когда—то между двух озер и покачивалась, как колыбелька. Теперь—то дома стоят, а озер тех нет, заболотилось все. Избы в деревне подсевшие, вокруг не кошено, но, дома, как на подбор, сохраняли свои украшения: резные карнизы и покрашенные наличники, и по какой—то странности, опрятность сочеталась там с затхлостью. Будто на кладбище пришел. А косить не хотели по той причине, что будто раньше закрутки в поле делались, а это вредоносный магический знак, дабы погубить будущий урожай соседа, либо повредить его здоровью. Ведьма поднималась в предрассветный час и творила свое черное дело.
Но дядька мой ни в черта, ни в бога не верил. За Колыбелькой той покос наш и был основан. А зачем на ночевку в лесу остались? Техника подвела, – ИЖ Юпитер—3, с люлькой и со старым аккумулятором. Наш транспорт даже с толкача отказывался «дыркать». Во как!
Как вернуться в деревню, когда вокруг ни души? Грабли, да вещи можно запрятать, а мотоцикл по просеке до проселочной дороги 5—6 километров толкать не фонтан, потом еще по шоссе до села пару часов пилить.
Оставалось заночевать – поутру погрести сено – после обеда выбираться на дорогу.
Идешь – выбираешь копну, что на тебя смотрит, – заваливаешься – разбрасываешь по сторонам руки и ноги, глаза прилипают к небу, к звездам. Ночь пополам без сна, бодрствуешь вместе со звездами, иногда вырубаешься, но в четыре утра – настоящий «дубарь», зуб на зуб уже не попадает, – вскочил – разведу костер, думаю, горячего чайку захотелось, а если еще найду шмат сала с краюхой хлеба, то вообще спасен. Еду—то прятали подальше, закутывали – это от медведя. Говорили, косолапый чует и может прийти переворошить все за ночь.
Несу ветки, – вижу свет пробивается из—за деревьев, прямо с стороны Колыбельки. Не пожар, не костер, а именно из окон, одной избы, другой… Глянуть, кому не спится в четыре утра, естественно не пошел, духу не хватило.
А днем что—то мне понадобилось взять из куртки, она на копне осталась. Подхожу, а под курткой все черное, зола золой, но вечером—то такого не было. Спросил своих покосников, а что живут еще в Колыбельке? «Нет, исключено», – заявил со знанием дела мой дядька. – деревня обесточена, колодцы засыпаны, дома заколочены. Может бомжи? Да какой бомж туда сунется – про деревню такие слухи ходят, вон даже покос никто не берет, а трава какая сочная здесь, а?
Случай с человеком, который привез вещи из заброшенной деревни
Ходил по деревне один мужик: сутулый, грязный, заросший, хромой, одна рука подвисла, как перебитая, лицо перекошено, как старое полено, и речь жеваная, будто челюсти не в ладах между собой. Таких в деревне почему—то называли «кержаками», хотя это вроде старообрядцы, но так звали.
Как—то зимой, в метель, мы засели в кочегарке, погреться, чтобы с новыми силами преодолеть пару километров до дома. Там кержак и выдал свою историю. Разрешите пересказать своим языком, чтобы было понятнее, а то его «вот», «вишь чего», «знамо дело», «загодя», «шибко» и «чертовня» повторялись через слово.
Ну так слушайте.
«В Северном я квартировал в старой заброшенной бане, у знакомых, ага.
Житье—бытье было «норм» (так и сказал он «норм»). Да и не мешал никому. Но по—хозяйству кое—чего не хватало. Просить стыдно было, а на покупку денег не напасешься. Один человек мне подсказал: ты мол в Колыбельку—то сходи. Потом выяснил, никто этого человека в селе не видел.
Долго собирался. А как—то раз сто грамм накатил и пошел.
Дома стоят как на параде, хозяин будто, вот, перед тобой на двор вышел. В одной избе барахлишка набрал, – заинтересовала меня самодельная лампадка на иконостасе. Беру, пристраиваю в мешок, за ней иконы поснимал, тоже в мешок, к кастрюлям, да инструментам. Вышел, обнаружил запах, с болота, ага. Прет, да не гнилью, а будто падалью.
Набралось четыре мешка – два припрятал там, а два пришвартовал на шоссе – трактор ехал – довез до Северного. Затемно уже добрался, ага.
Проснулся утром, как обычно, в пол шестого. А правой руки—то нет. Вернее, она есть, а я—то не чувствую – онемела до плеча. Бывало отлежишь, так ведь не до такой степени. Без малого месяц проходил, ага. А теперь глянь, вишь чего, уродина на месте руки.
На работу не берут. Мне говорят: в церкву сходи. В Северном—то священника нету. В Биазу ездил, ага. А толку? Узнал я – иконы, да и вещи нельзя с домов чужих выносить. Да к тому же старухи сказали мне, те иконы, что я припер, были «наказанными иконами», от того и почернели. Язычники, у которых в доме не ладилось, имели традицию наказывать икону, вроде как не ко двору пришлась, – ставили ее образами в угол или забрасывали на чердак. А церковные свечи и лампадка использовались для гаданий, заговоров, потому тоже злая на них энергия.
Ого, думаю, наскреб себе на задницу. Знал бы где падать…
А куда иконы подевать, думаю. Людям не отдашь – мало ли с ними чего случится. Глянул – а образа—то почернели. Вывез в лес, да спалил все к чертям собачьим».
– А он всегда такой был? – спросил я про кержака.
– Да нет, ты что! Капитан волейбольной команды Северного района, много лет…
После того рассказа кержак ходил по деревне угрюмый, почему—то не здоровался, а потом пропал, и больше никто его не видел. Говорили, уехал он куда—то, а там, как знать. Но почему баню спалили после него, этого я не узнал.
Генка и ведьма
В Северном жила молодая семья. Дом им дали от колхоза. Муж Генка подрабатывал в экспедициях. Жена Людка сидела в сельсовете. Веселый был парень, гармонист, но имел одну странность – весь хлам в дом тащить. Раз припер он на «газике» гору вещей из заброшенной деревни: мебель, чугунки, горшки, крынки, дежу для теста, ведра, зеркала, лампадки, стопку полотенец с вышивкой, ложки с ножницами, кочергу с ухватом, сундук, даже двери с косяков снял. Жена его Людка спросила, откуда добро – тот сразу не сознался. Она глянула на табуретки, стулья, стол, доску для стирки, – конские головы вырезаны, без глаз, да с тупыми мордами – известное дело, обережная символика, – посмотрела она на мужа, да в слезы, он тут и огорошил ее: «Из Колыбельки».
Жена, не притронусь, говорит. Тот вывалил добычу в сарай. А сам вскорости призадумался, что на мебели и даже на пасхальных деревянных формах делает языческая символика?
Потом началось.
Осенью Генку на том же самом «газике» жена повезла в районную больницу, – сломался при падении с лестницы в пьяном состоянии, отказали ноги.