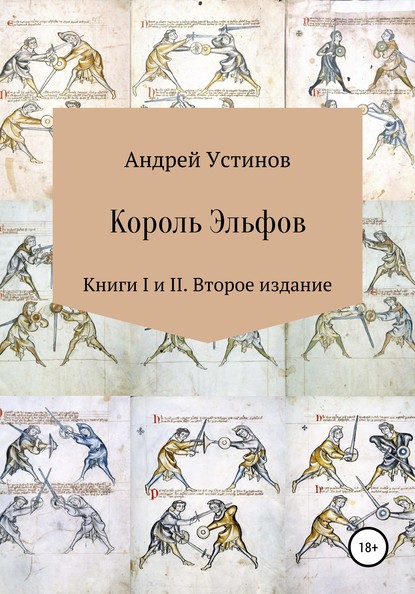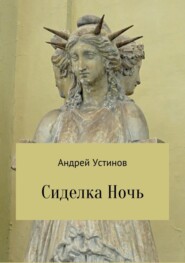По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ах, откуда и сам гуторить стал? Лась? И что это? И тихо повел ладонью по локтю друга, и пальцы сплел с ним в завсегдашней клятве… и запотыкался в домик-темень, где охапка соломы шелестела, другом обогретая.
Я повозился малек, гнездуясь, шибче подгребая под щеку… и ничего бы, но зацарапило ухо, пришлось тамо кулаком примять позольше – ну, дружье дело! И когда тепло растопилось по членам, когда соломный прянцовый запах пробрал до чиха – ох! не мнил, что тако вздрог! – ясенно воспомнил о Катинке, самым телом взомлел! Катинка, Катинка, Катинка…
Катинка! Время высокопарных слов!
Я скажу вам так, собратья во Глахе: мы все живем увлекаясь. Но иногда (даже если по пути в бордель) оступишься на кривом булыжнике и упадешь башкой в перекрещенный лунный луч, и назавтра – верная примета! – встретишь звезду. Так и эльфы говорят, ибо так и есть. Ибо вспыхивает дева ярче полуденного светила в дюжину огней, собственной Гелией твоей, и в душе первая весна от сотворения мира. И те из вас, кто морщится и насмешничают сейчас на задних скамейках (я ли не сиживал там!) – о, знайте, что вы просто несчастны! Несчастны, ибо не ведали даже краешка рая, не вдохнули даже горсти Элизейского воздуха и не знаете цели своей! И даже не считайте себя людьми – о, вы не человеки еще, но сущие лоховесы, непогребенные зомби, ходячие костяные болванки, рыночные марионетки, расходный материал для королей и церковников. Но ждите и молитесь Глаху с Метарой, безусые бражники, чтобы боги подарили вам вечность! Но в том утешение, ученик, что каким бы тощим переулком ни плелся ты в ежевечерний кабак – Всегда Сбыточно Чудо.
История была та, что в тупомечных тяжбищах на гимназиуме я чинно-славно себя показал и вошел в доверие! А! Все те начаточные кустодии, выказанные сержем для новинантов, и даже боле (особо я любил верхний лангорт) – столь вдолбили мне еще в ликейонском гимназиуме, что сия попрыжня с баклерами только смешила. Я-то верно знал от первого брата, побывшего в дольночинной сваре с соседом (за кого вышлось отдать сестренку), что на подлинной брани и щиты-то потяжче, и мечи-то, кто хитровей, подбирали с наострием, дабы чуждую кольчужею проколоть аки бычью кожу… Ну – а паче история та, что самых ловкосердных серж, по праздным дням, возглавлял из лагеря в походах на разомление. Более того – ибо платы, кроме хилой крыши и кормежки с гнильцой, мы и стотинки ижей не имали, то известный кабак “Топор и Дева” (во времена изуверские там рубили власы согрешившим – ну, говорят!) был уделён родичем-комендантусом (ах, глахомольный вор!) уболаживать наши потребные нужды: девки были весьма ушатаны, но под пинту темного любая оченно шла за потерявшую доход белошвейку! И я бы не огнушался так пожить – пожалуй, нет! – ибо заводчик, словив словцо о могущем псевдородиче моем, чуть не всех кобылок меченых готов был самолично отмыть и подстелить! Ох, и разжился бы я (марионетка убогая!) этакою жизнью! Три пряхи, однако, знают свои труды…
Вот так было:
– Аааах! – визгнула рыжая девчонка-прислужница, разливавшая имбирный сбитень по-на-мимо сдвинутых кружек, едва сержева широлапища взлетела ей под булки. Козой вспрыжнула на стол, ей-глаху! Да еще завизжала, вся ярая, как волос ейный, да и сбитень весь, запрокинув кувшин, заплеснула сержу на разусье! И поскакала по столу, повизгивая, перескочивая накиданные кости и пупырыши (курей жрали) и лапкие руки, потянувшиеся к голым розовым пяткам. А серж, красный от сбитня, приподнялся над скамьей, урча огло и распялив руколапы будто в жмурках… моча глаза ручною водой из плошки, шлепнул с размаху себе ж в физию, устроив полную мистерию. Ну, как омытие грехов…
– Агахагаха! – загрохотали пропойцы, давясь от смака и тут же, натужно вращая глазами и пуча щеки, сблевывая излишки под лавку – ну коза! ну нечестивец! – Виина! Хозяииин! Эээля! Сбииитня! – так и орали, хохоча и дрыжа всеми конечностями зараз.
– Новотерка-х! – завистно хихикнула, криво ерзая на мне, доблая кареглазка, впрочем, на один глаз прыщавая, да и с усиками, похоже, проступающими с-под толстого слоя бабьей кой-то мазни над губами, – короче, местная принцесса. – Ниче-х, оботрут скоро-х!
Я уже маленько хлебнул золотого метарского, а то и не маленько, и был довольно добродушен. А по глаху, что эль тот был не золотой, а скорее мочевой! Пфф! От шутки сей стало только смешнее и соседи, с кем поделился яркостью, охохочась, тут же прыснули тем элем на соседей дальше – метарский мочевой! Пфф!!
Впрочем, на такой сердечный накат девиц я не рассчитывал, хотя… дни-то зарубал, столько уж без утехи! Даже в ликейоне, чтоб его, ик! – даже в ли-ик-ейоне чаще бегали в утешный дом за ды-ыкрой… дыркой в ограде, но тама… ох, Глах! Как по-детски шутили там: шныркать в дырку за дыркой! ох, мама! метарский мочевой! – тама хоть были раздельные комнатенции, а здешняя манера девок садиться на мужа прямо при всех!.. хотя, поразуметь, то и шибче для забавы! Благо, мой конец был не малый, чуткий похвальбам сих почитательниц, всякий раз заботно полоскавших его достоинство вином! Сия уж третья! Долго токмо возится…
Конечно, прислужница – то другое, то девчонка почище обычной. Честная, то бишь, строит из себя расфофаночку златонитную, а саму-то для заманки токмо и держат… а то ли и дают за цену-то?.. да хрен знает, спятишь тут от жары и этих угарниц. Но охоче б огневушке той засадить, чем этим клячам пареным… кому-то и полощет, ась… уф. Что-то муторно стало и сильно тошно…
– За Мета-а-ару! – завопил вдруг серж с противного ряда, покачливо вздымаясь над столом и махая, что боевым орлом, огромной двуручной круженцией. – Зааа Меее-тааа-руу… – завыли-застучали прощелыги кто чем мог, да и я воспользовался удачей – смахнул по уху бесполезную девку, воскочил… да и срыжнул, за Метару-то, все, что мог, прямо в стол…
Потом провал (хотя и буянил, грят, сквозь ночку), а к утру:
Что там гнездовилось в голове, какой красочный морок, лихие боги и кудрявые наложницы – все выветрил сразу, едва сотоварищи ливанули за шиворот колодезной склизью. Ажно со льдинками! И вторую шайку уже наготовили, да на себя же и пролили ржачно, когда полез с кулаками… уроды!
– Уроды! – повторил, хохоча с ними же, раздаривая и принимая разшлепоны по загривку, так уж принято на сей службе! Окстилось, так и продрых рожей в стол, а уж день и солнце… Что же! Отлил, опохмелился, да и вывалился в улицу за всей гурьбой, где те уж гопотились на ярмарку – обещались какие-то наезжие скоморошники. И пошли, благочинно горланя метарский гимн, сочиненный недавно каким-то местечковым бардом, – что же еще, коли у герцога с горлопанами строго, да за гимн-то расчудесный как накажет? Все ж за него, родимого! Так и орали, дурачась:
– Пусть даст приказ Равах, врагга развеееем впрааах, Попотчует ворье, Метааарово к-копьеёёё! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метааарских острых стре-йе-йе-ел! Звенит военный гонг, шагает в шаг плутонг, Прикроет ваш шабаш, Метарский герцог наш! Завидит скоро враг, зелено-злааатый ффлаггг, Отведает пострееел, Метааарских острых стре-йе-йе-йе-йе-ел! – ах и весело было, с гудящею еще головой, дрожащими еще в икрах ногами, топотать по парадному булыжнику, что украшал центровую улицу. И кричать, что было мочи:
– Да здрааавствует Метааара! Да здраавствуует Равааах!
И как ни хмурились кожистые комендантовы закрутчики (родичи, Глах его!), как ни почесывали прилюдно руки, да серж строго выучил – максимум можно пришлепнуть подвернувшихся простушек за что дотянешься, то же во славу герцога, что визжишь? Аха-ха, как хорошо! Большинству-то и нравится, раз под руку мнутся! Ах, то же ярмарка, Глахов день! Но разок и самим нам пришлось, точно простолюдам, прижаться ко стенкам: когда (помяни беса!) пронесся вихрем герцогский отряд, и даже будто (против солнца же!) черный профиль герцога развидел, так и отпечатался в глазу. Ух, страхота! Ажно ко смеху стражников ногой в цветочную кадку какую-то вляпался…
И вышли на площадь, увидав которую, всю в расцветных палатках торговцев, всю в аромате осенних радостей живота, я и не признал сперва. Лишь когда пробились прям к скоморошной арене, зазывально бросились в глаза разноростые буквы, разодетые в робы и хламиды, кафтаны и камзолы, да и сами Эл-да-Пирси в каурых сюртуках почтительно вливали что-то в оба уха развалившемуся в центровом кресле комендантусу, лениво покручивавшему бороду кривым мизинцем. Народец, конечно, напирал и прикрикивал, но все же продавились-проражились ближе к лицедейству. Шло наново представление Аристофена, смутно мне помнившееся по Коголану… когда также мялся-толокся на площади в компании лицеистов, сквернословящих от избытка пива, и любовался издали на королевскую трибуну – на юную графиню Эльзу, кривящую розовые губки на эти шутки… и воспоминания те… изнутрешной какой-то тоской брызнули из глаз, расколдовали будто весь окрестный морок, все его похмельное веселье, обнажив за пестрыми шторками палаток ту же варварическую нечистотность. И мерзкая пьеска, которую теперь, обжатый гыкающей толпой мастеровых, я вынужден был терпеть, срамила мне – ах! – самого себя!
Ах, друзья лицеисты, тогда я только чувствовал, но не понимал. И только теперь, вспоминая ту ярмарку, могу сказать, что узнал до конца горький гений Аристофена: взять бездельника из толпы и окунуть в деготь, и измазать курячьим пометом – и саму ту толпу заставить над собою же глумливо хохотать. Надо признать, и театр Эла-Пирси был затеян изрядно, с разными механическими выкрутасами, добавляющими абсурда картине:
Светловолосый незнакомец пойман на задках дворца – дворца! – справляющим большую нужду. Эпически прикован, приклеен своим испражнением к земле, не может освободиться – запор! о-ха-ха-ха-ха! Когда же взбешенный князь готовится убить его – вертится как на колу и от страха срет все больше, на этой говняшке поднимается вверх – к Годоте-Гадесу. Который, в свойную очередь…
Уф! Даже показалось, что вся возбужденная толпа округ ажно обделалась разом, так вдруг ударили в нос чьи-то газы… насилу выбрыкался через-сквозь палатки на главную улицу… Да и тут какие-то перечества: загородная веревка между столбами и кожистые стражники, жестко костыляющие всем, кто гнался под нею перескочить сторону… крики и дав, еще нестерпнее, чем у сцены, ибо толпа куда-то влеклась, отжимая ноги… топот и многоголосое хрюканье… хрюканье? Толпа? Да не схрюндил ли я и сам от избытка эля и не оборотился ли сам? Ах! Вспомнил! То был (Щерба ли упреждал?) праздничный местный обычай – выгон свиней на жор, короче на очистку дорожек от всей съестноватой дряни. Варварское рассвинство! Стражники прогоняли по улицам свой особый свинячий плутонг, а народ безжалостно отпихивали в любые щели… пихнули и меня, совершенно нечинно, но я уже не рыпался, наученный былым… эх!.. Пихнули еще разок, и кто-то опешенно запищал за спиной:
– Ах, сударь! Вы меня убили! Ей-глаху убили!
То была румяница-прислужница из той, из первой таверны! Ясенно, наодежена была по-праздному, в белой робе с красной рунной вышивкой, а то ли и не рунной, а просто отороченной пестрявым орнаментом. Из-под подола же – вот прелесть! – выглядывали ее ножки, которые я, медведь-шатун, чуть не отдавил: заради праздника и самотной, как говорится, бабьей погоды, что выпадает рано в осень, была в одивных белых sykhos… Кажется, так? Ах, забыл слово, хоть и слышал когда-то – как бы краткие гольфы и с разделением для большого пальца. Ну это нарочно, чтобы – вот как сия чудная дева! – надеть потом в улицу легкие лыковые подошинки на тонких оборах. Ах, чудо!
На русой же головушке ея (так по радостно-ярмарочному и хотелось говорить!) косы были укрыты в тугой узелец, опоясанный листяным венком на ивовых прутках. Ах, уж нанизала она и дубовые листы с вкрапленными гландисами, и ясенные с крылатками, и яворовые пурпурные пласти… И голубые глаза ея, чище у края и с синею обороткою вкруг зрака, глядели на меня, блестя от смеха, из-под взмахов поющих ресниц. Ах, сколь часто потом перецеловывал я очи те, темнеющие в накате страсти, и горячие щеки, пылающие нежностью сквозь горничный полумрак, и тонкие ноздри, раскрывающиеся судоржно от нехватки эфира, когда любил ее бесконечно!
О Глаше, Глаше, Глаше!.. Ах, как тот я заметался по соломе, ловя мнящуюся рядом девчонку! Забубнил что-то, заслюнявился счастно сквозь разноцветный сон! Ах, а сон был – что листопад: то побежалостью метнет в лицо, то кармином простежит-поманит дорожку впереди, да и зашелестнется в клубок… Все частички моей души, крупицы бесполезных знаний, всех литературных штудий в ликейоне, в коих не последний был!.. частиц, давно на дне души осевших, взвесились тогда по эфиру бисеристой дрожью, заголосили и раскрасились в этом сне. Как бы – вот, спал я (тот мальчишка-Гаэль) в тусклосерой каморке, разбросавшись руками-ногами по клочьям соломы, тусклый такой паренек, – а выше-то, над кособоким домишком, в разъяснившемся небе полошилось сияние жар-птицы, сияние моей души, и столь дивных глубинных оттенков, нежданных каждый-охотник-желает-знать перемен, будто торжество невыразимых истин над горечью листопадных утрат… Грядущих утрат? Ах, будущее! Только и ведомое в бреду! И каждый раз, когда еще и еще вспоминал и вспоминаю ее, – я уже не знаю, тогда в прошлом вспоминал или в нынешнем сейчас. И если слова мои звучат слишком мастеровито для безусого мальчишки, то помните, что все настоящее вечно и говорю я – из будущего языком эльфов. И в мальчишечью мою любовь – в любом возрасте могу я войти, как в живую картину, и жить ею заново, и чувствовать новые краски, и говорить прошедшей любви новые нежности.
И те из вас, кто насмешничает, кто до сих пор не любил, могут и должны перелистнуть сии страницы, ибо не в козла будет корм! Но тем, кому ведомо сие жжение души, расскажу истинно… заблуждение ли? И да, и нет. В состоянии любви – мы не видим обыденного, но глаза наши становятся глазами богов. Ибо истинно говорю вам – такими Они и видят нас, человеков, смешных светляков, со своих высоких небес! Вот так было:
Катинка (явившаяся единственной дочкой трактирщика! свезло!) умела часто отлынуть прислужных дел, прихватывая той-раз холодной дичи и эля, чтобы перекусил ее суженый (то есть я!) от лагерной тухлой жрани. А я иногда – что же тут злого? – прибирал всякую железячку с лагеря, что лежала не очень, и на вырученные медяшки щедро нахватывал ей ленточки и златы-нити в златы-косы и еще блестящие колечки-брошки, и за руки бежали мы на луга за южные ворота – помять муравушку, покуда день… а вечор – тайком я скребся по глухой стенце к высокому оконцу – и обжимались до рассвета в ее горенке, да и что обжимались, любились во всю прыть!
На диво, Катинка была религиозна до мнительности, тягала меня, коль слаживалось, на изрядные Метаровы процессии и звонные толпования, от коих гудела после ее головушка, но верно радовалась, что суженый ее суть грамотеец (о, ликейон!) и знает расчислить весь пантеон и мелочные их межбожьи сварушки… ах, хотя радешенька была, как истая девчонка, прихихикнуть над божествами, но оченно тянулась верить раскушенному на праздник Дома прорицанию (в сладкой-то печенке), что Метара лично нас свела! Ах! А я охотно таскался за нею и все-все поддакивал, она была для моей вечной неги, для любования вдохновленным ликом, но не для метафизических дискутерий, нет! И про себя (ах, благодаренье кормилице!) – то я строил в кармане фигу, то скоренько складывал пальцы меж пальцев накрест, что вся наша встреча лишь случайность, встреча говорливых песчинок, ибо если бы боги впрямь смыкали наш шаг – о, они бы не успокоились! Больно-то мелко было бы для богов и присной их своры…
О да! Я мог бы, наверное, спать вечно, баюкаясь восхитительными видениями, скользя по завиткам Голоховой шали, – за все мучительные часы в лагере, когда изверг-серж не давал вдруг выхода и рвались в клочья намечтанные мотыли моего счастья, за всё-всё-всё, недоданное мне жизнью, – во сне, как с чистого листа, смеялись навстречу мне слезинки ее глаз цельною лазурью естества. И день оживал белотрепетностью ее лица, и проталиной раскрывались ее веснодышащие уста, и под прядью всплеснувшейся, где виделся набухший сережек исток, млел, будто непрочный кусочек элизиума, вдетый ею тряпичный пимпернель. И когда обнажалась, когда вскидывала косы желтою льняною полоской поверх дрожащих вен, когда вспенивала их пышно, не была ли она нимфой, вздыхающей нежно, покидающей купель девства? Ах, а в ночи, будто обнажая тайный гобелен, когда вспыхивает мятущаяся свеча, будто по Глахову слову, из небытия – выплескивалось на меня, выбрызгивалось солнечной насмешливостью ее лицо! И на краткой прогулке, где в осиновых листьях поляна жгла румянцем, как лукавый девичий лик, Катинка была – этой рощей, дрожаньем и голосом тумана, языком древесной феи, чей выдох, спутавшись, индевеет на кончиках век, но раскапеливается на мои поцелуи, растворяясь во мне! И там – или другой раз? – из-под радуги брызгали вдруг листья, обнажая разъем в яблонных ветках, где виделось закрасневшееся золотистое ядро, и там же распускала тяжелые плечи облепиха, маня в хоровод, будто сжигая солнечный вечер на осенние бусины, и там же пророчили нам судьбу пряные флакончики львиного зева, ах, в Гесперейском саду! А говорили ли? Ах, до речей ли там, где рук ее, почти смутившихся, почти затанцевавших вальс, чистое влюбленное дрожание заменяло кугели фраз, где воздух шелестел тайным электричеством, будто рассеченный мнимыми сомнениями – не в любви нашей, но в вечности этого мига! – рассеченный умасленным сиянием ее золотистых кос, как будто радугою влет, сиянием, да, придававшим юную славу ее улыбчивой небрежности, там расцветающей сполна, где на губах ее ловил я пушинки ее неги и аромат ее – ея по торжесловному! – тепла?! Да, да! Вся она была – от дрожанья век до дрожи пальцев, до голубизны усталых после прислужных часов голубых ея вен, вся была моим переменчивым счастьем, вздыхающей, не поднимая глаз, как вздыхает наяда, задерживая детство и ещё втирая в виски сладостный елей, отвечая да смертному. А крепко ли любили? Ах, мы были Кеик и Алкиона, когда гуляли вдоль прохладного моря, где с тягучим криком проносилась чайка под вскинувшейся к облаку волной и облако сочилось сквозь пальцы прозрачною берестяной строчкой: проснувшиеся звезды сейчас коснутся твоих синих воспаленных глаз, и мы застынем в мифе, Алкиона, покуда пена не отпустит наши шаги! Говорили ли? Ах, до речей ли там, где имя кажется ошибкой, прошептанное невзначай, где через печаль минувшей разлуки и страх будущей – все равно, как бодрые сорняки! – пробиваются улыбки, где светлой полудетской брови разглаживается излом и выдох ее – ея! – как будто болен ее любовью?! И ее глаз, источающих испуг, слепые всплески голубые, и нежных белых рук скупые от робости касания, и переплетенье ее волос, будто из золотых каких-то снов, и непроизносимых слов почти неслышимое пенье! И где – когда совершена любовь – все еще дрожит слегка и будто нежит мятую простынь ее незащищенная рука, чья ладонь еще раскрыта в изумленье, как будто все и не всерьез, и тонкая линия жизни еще хранит смятенно тепло моей жизни? Ах, она сама была – лишь сбивчивая строчка из путаной поэзы о любви, где связывают многоточья несовпаденья рифм, где испуганный нежный голос – тонковетлою рощей взметается в небесную просинь растрепом птичьих полумер, где на березках остаются желтеть ситки ее волос, где на тропках блещут неразбитые блюдца ее девичьих полугрез! Ах, и когда совершена любовь, как беспечно я скользил в розовощеких снах, где являлась Катинка благородной горожанкой, снизошедшей ко мне в луга, изыскивал среди цветастых стежек алый лак на кротких ноготках, голубые гво?здики сережек, трепещущую капельку ручья на серебринке тоненькой цепочки и щекотные ресницы астр! Сердились ли дружка на дружку? Да! Ибо что же любовь (так потом Ориест-друг учил, прозванный воробушком!)… что же любовь, как не осколки прозы, утратившей медлительную спесь? Как две березы, иной раз растерянно бросали оземь свои сережки, но затем лишь, чтобы завтра снова цвесть! Ее один лишь вздох – и перепалок окаянных, колченогих от потери букв, да сгинет поросль, да сгинет, ибо только после ссоры слово исповедуется вслух в придорожной крипте, и только после засухи витую ветвь осеняют вершинные цветы, ибо только в испытанной вере в Нее в полной мере существует Она. И тогда – буквы, будто низка самоцветов, складываются в звенящий хор, покорные моему обету: она топни ножкой – и разлетятся стаею разжалованных ос, сложив неуживчивый вопрос в небе из искусственного глянца, – а посвети она сказочною нотой голубых забывчивых цветков и воскреснет рядом нежный кто-то, запинающийся во слишком многих нежностях! И тогда – разговоров брезжит тропка, без памяти и сна, полная расплоха, не знающая дна, и тогда – на счастье и на лихо разбег ее бровей и разлет душистых кудрей, и будто нимфа поселилась на качелях ее век, и тогда – все мечтанья детства и взрослости излом дремлют по соседству в имени ее. Ах, какие глупости звучали в наших речах! Глупости, которыми был переполнен воздух, будто мостящие нам тропку до Луны! Невинные созданья, лебединых предкрылий белый пух, упованья, рвущиеся к жизни, но понапрасну высказанные, приносящие печаль и страх за будущее: и она всплескивала руками, задыхаясь, и щеки влажно щипала завязь торопливых чувств… и горячие глупости, как расплавленный мед, истекающие сквозь ее сбивчивые губы… и наутро, сквозь серый дождь за окном и долей височных разнобой, все их она опять пересчитывала, все вчерашние глупости до одной, всех мотыльков моих слепых обещаний и, плача, опять улыбалась мне! О, как я мечтал быть художником! Чтобы моя провидчивая кисть могла изобразить задумчивую жизнь ее полубровий вздетых, манящих в иные приделы, изобразить тонкость ее взглядов, будто преломленье витражных брызг в заброшенном храме, изобразить оживление нежных рисованных ликов, всенощное бдение цельного иконостаса о нашей неожиданной любви! Или – изобразить десятую страницу ее снов, будто гобелена полотно, где лица выражены неровно и закат льется в приотворенные окна, и где, тонкими лучами опутан, я мог бы коснуться ее дрожащих рук, где потолочный полукруг полон тайного воздуха и тайное слово еще не сказано, но уже коснулось ее уст. Как мечтал быть поэтом! Чтобы, когда будничности чет и нечет пытались загасить волшебный синий блеск ее глаз, мои стихи излечили бы ее сладкой пастилкою под язык, чтобы просыпалась вместе с солнечным арпеджио арф Элизея и босые ее ноги легко приемлили брызжущие росы моих стихов! Ах, да! Да, быть художником и поэтом, чтобы нарисовать пляж песчаный, где засухи правила ересь, затанцевавший смерчами, почуяв прилив, где поют русалки, возвращающиеся на нерест, и где шершавой волны опять – опять! – воплощается миф: пожертвовав тело свое налитое, гребень пенно-надменный искусно горбя, на лазури воды из песчинок и праха прибоя, из течения струн нарисует Ее лик, – где, воскрешаясь из пены влюбленных истерик, в пестрых перьях и кичливо трубя, стая нимф через отмель летит, призывая Ее, где, уловив жизни поспешность, прошептал бы я истощенной волне, что никогда не окончится моя нежность и неизбывны песчинки нашей любви! Ах, что мертвая ночь?! Если – по кромке бренности, где поцелуя ждет сирен окаменевших пенье, дыхания ее прольется бирюза и черной пасмурности вылиняет цвет, и за жахлой кочкой луны – огромной бабочкой вспорхнет желтоглазый день! Ах, Катинка, неразменная монетка, выдумка взахлеб, росплеск рыночного фейерверка, скоротечный озноб, омут, понарошку неглубокий! Строчками любви, новорожденными еще, дрожь и томление воздуха, капелью сорвавшееся слово наконец, радужная грусть и нежное стихотворение наизусть! И кто/что я без нее? Слепо, будто дышащий по звуку, будто она за тридевять земель, мальчик из ниоткуда, потерявший карамель и неспособный пережить докуку? И когда чертов буран за стенкой караульного поста воскрешает лежалых листьев вихрь, будто уносит ее улыбок теплоту и горесть, что я могу? Выдохнуть больною испариной ее лик на слюдяное оконце, и тогда мрак вокруг меня становится обеспредмечен, как солея пред сияющим кумиром.
Вот так я и дремал в слезах, а то и улыбаясь, весь в иной жизни и торжестве ином. И проснулся бы – не пересказал бы, не перевел бы сон, кроме имени ее. Сполохи цвета и выплески слов, все мною перевиженное-переслыхнутое и перемолотое дремой, все плотно стежилось в цветастое одеяло, укутавшее мое внешнее я, и только нечто внутри, еще мне неизвестное, резвилось и росло.
Так вполне можно в сержи и жить! – вот и все, что сей глупец (тамотогдашний я!) сказал бы утром, потянувшись-залыбившись и неверно плюнув трижды через плечо.
Но три пряхи, прилежно сортирующие нитки моей души, ах – они-то знали свои труды!
3
Я не жалею о прошлом. Но все же, каким бы рычливым щенком (всерьез мнящимся волкодавом!) я ни был, но светилась в сердце Катинка и были щенячьи какие-то планы. На деле же, конечно, я понимал волчьи законы людского мира не больше, чем мотылек, только что выцарапавшийся из куколки.
И все сломалось, едва начало налаживаться. Хотя Елизер, всеведущий маг, и объяснил мне позже, что случайностей не существует, но до сих пор я сомневаюсь… а если бы боги так не заботились обо мне? Если бы наши с Катинкой дорожки не перекрестились в тот день и час у гарнизонных ворот? Если бы остался с ней и любил ее вечно, как и хотел? Так и порхал бы над мирским тленом? Смог бы? Елизер уверял, что нет… и не один повод, так другой, но обязательно отправился бы дальше по дороге славы. Что тут сказать? Я нынешний – не жалею о прошлом. Но я жалею того Гаэля-мотылька, которым я был и которого больше не будет никогда.
Плюх!.. Шшшуу… Был пасмурный осенний день, хотя и без мороси, и шугливым волчонком я скребся по кювете вдоль лагерного палисада, сердито жужжа под нос:
– Канава! Чтоб их! Кювета же! Хотя кто тут терминарии разумеет! Воеводы ж!
Относилось это к утреннему спору на плацу… Сержа никак нельзя было обвинить в чистоплотности, но кинули словцо – кто-то от армии будет спозаранку, может и отправят на подвиг, и надо было хоть как-то причесать поляну. Вот и мел драный плац драной ивовой метлой, задираясь с прочими бездельниками, пытавшимися смеяться над моими знаниями сражений и позиций, набранными из ликейонских уроков истории. Ах, натуральный бисер перед свиньями! Да и клятая листва то и знай падала вновь или насмешно разлеталась из наших куч, лишая день всяческого смысла. И потому был я немного сгоряча и мысли жглись и бились соответственно. И пусть неподходящий день был для шалостей, но из принципа и злости пустился все же в антрепризу.
Полз я к водоводу под въездным накатом – ах, самому ж стремному месту! Плюх!.. И замер, пузом в тяглом холодце, сгиная забродившую осоку, закиряя шею от укусов… Й-й! Засвербел позвонок, зливо ломясь… ух, выклонился как-то, замакнув пожатые губы, лишь нос над самою жижей потружно выдыхал склизкую рябь. Ах же вонильня! Чу! Еще и зубецы от холода заломились! Чу! Дневальные на привратье, два матерых злыдня, вышедшие вдруг из караульни сплюнуть смоляную жвачку, бормошились почти над душой, въедливо честя честны?х девиц, сочно отрыживая тяжкие ароматы… да и задами не держались (ну прямо трубачи!)… приходилось ждать.
Но что же делать: незаметный подлаз по кювете и был ключом к моей антрепризе – подворовке подков, первый год введенных нашим новатором-герцогом для обозных лошаков. Ну, заместо допотопейных сандаль-накопытников на подвязках – то-то в осенней грязище хороши! И потому весьма востребных держателями дворов! Ясенно, я не мог выйти на ярмарку и торговать с кармана; потому загрошно сбагривал подковки некой кривой роже на базаре, знамо лишь за медный звон в нужный карман не наколотой ще на оградцу на том же рынке. А то, нам на страх, пяток конокрадских жоп (пардон за жаргон!) там уж месяц сохло на зазеленевших кольях, ух как! Подковы! В Коголане-то они водились давно, для гужа и верха, и я от души смеялся местным кривым поделкам, совершенно без отворотов или чинного тщания о балансировке! Ах, а прямые безукосные нагели? Варвары же! Воеводы ж!
Да-да, и ключом, даже нагелем к прибытку (я аж икнул, отверкнувшись от тыркнувшего в щеку сохлого стебля) была наглая удаль торнуть кузню отвне. Ах, как я смеялся целый день, когда меня поразила сия идея! И даром серж-подлец выставлял на плацу кратный караул, – тем пуще потеха! С нашего со Щербой поста (отговариваясь, будто пошел по-большому) я бездельно шлепал в лес и сквозил через дубраву к отводной канаве, а там-то и приходилось полозовать. На это дело я, воображая себя сказочным ловкачом-буканом (бишь, эльфом-контрабандщиком), бережил старое тряпье под приметным камнем – влезать было мокро и грязно, но не сушить же на солнышке? Но кто же нагадал выставить кузню глухой стеной наружу? Пускай сплоченной в лапу, да задник крыши прибили мимо лаги (эх, криволапы!) и доски подъемлились неособным усилием – ан бы не оцарапиться! А чтобы не попасть на поверку, озорничать приходилось по обеду, пока серж в конторе вкушевал свежие провианты с рынка. То было вроде подати, наложенной добрым герцогом, что каждый торгаш поочередно возрадован был кормить защитный отряд. Типа рабьей дани, положенной по распорядку, согласно доходцу… а мне-то – шумная суета, чтобы проскользнуть под накатом…
Уфф. То ли от неудобства меркнуть мордой в луже, то ль от монотонного гужения дневальных, чуть видных мне сквозь траву, – вдруг мне до холодной смерти надоел весь циркус. Еще вялый бурый пискун прижалился аж на кончик носа, нацелил хоботищем, двоящимся перед слезящим взором… Я зажал дыхание и макнулся ниже, пискун обиженно порхнул куда-то за ухо. Сволотец!!! Если бы не Катинка, коей прошлый раз погорячился наобещать изящную вошеловку, деревянное резное яицко, прямо как у благородных дам дома в Коголане! Так увидел в оконце богатной лавки, так и обещал: а разве недостойна моя Катинка благородных устройств? Если бы-бы… Ах, сколько ждать еще подводы с налогом, вечно подвозимой к заклону солнца?
Но и болтовня про себя (разве что пузыри разбегались по гнилой луже) обрыдла до рвоты. Подумал, что причитаниями похож на того хлыща, что привечал меня в Метаре, и разозлился еще больше. И почти уже выскочил из штанов на злыдней и что-то злое учинил бы, но…
Чу! Я дрожу до сих пор, вспоминая… я не поверил юнецки запылавшим ушам – как бы само светило тяжко пало на череп и расползлось горячей лепешкой! – за хохотком сторожей, за тяжким притопом лошака по мосткам и скрипотелью тележки (ах! и сам я шелохнулся было облегченно, плюхнув лужу пузом абы жаба!), за брехотливым сверчком в кусте, позабывшем про осень, – расплеснулся знамый боевитый голосок. Как же?! Как же?! Как же?! Не их же очередь??? И такмо кровь загорячила мне по вискам, что Катинкину смешливость едину и внемлил, абы колокольную святицу:
– Доброго дня, судари! Припасы вашему сержантелю!.. Ай-ай! Ей-глаху, судари, не лапчитесь! Ужо топорницы вянут без вашенных рос!.. Куда ли! Сей окорок гербовный! Порвете мне вощеванку… Ах, сударь, полно, ах!
А дале – пали на очи морок и сон, я крался-терся, драпался где-то, дрался-царапал, и чуял лишь святицный ее голосок, перезвившийся финально в мышиный визг, достойный серосветного плесеннодушного амбара, куда я вломился сквозь запор-в-щепы за голоском ее, а развидел ее нагую покорную суть! Как же… и закличился, и кинулся на темного борова, монотонно ее кроющего…
И выяснилась в глазах – лишь выгребная яма, в коей приочнулся:
Смрад… парной живой смрад, в ком ты по горло, почти глотая, смрад, дна которого не знамишь, еле обдираясь пальцами за склизные корневища из стены, смрад в глотке пополам со рвотой, пропитавшей зубы, феторный дых в носу из собственного нутра, дриста и калые горошки в ушах, залепленных глазьях и волосах (это когда срывался с корневищ). Егда, грязно хмылясь, на тебя во имя Голоха опошевили нонный жбанец нечистот… Когда само течение дня ты меряешь сими корчагами-братинами (у разных бараков разномерны и уже знаешь все!), опошевенными на те со хмелого размаху, и жалишься к стене, нычешь дыхание, и по темени, по власам, за шиворот живыми червями течет по тебе смрад. И одежка на те ожилась второй, смрадною кожей, под кою ты и сам гадишь в себя, абы в суму. И даже вонные мухи с отяжеленным брюхом, лениво бражжащие, мнится, тужко присаживаются на голову, чтобы еще испражниться лишку. Скоро руци ослабнут, и…