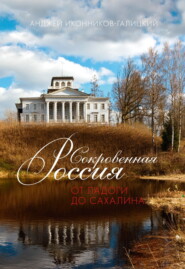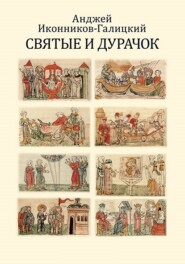По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Утро седьмого дня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лулу. Ужас! Ну а что мы будем делать сегодня?
Серёжа. Почему же ужас?
Лулу. Пока нет этих умников, давайте веселиться! Давайте играть в театр! Что-нибудь жуткое, шекспировское, леонид-андреевское! Чего не может быть! Серёжа, держи револьвер! Давайте, как будто ты застрелишься, Лёня кого-то убьёт и его расстреляют, вы, Марина, повеситесь, папу ограбят и он умрёт с горя, а меня… Меня сожгут в печке!
Иоаким. Давайте играть в театр!
Лёня. Давайте!
Гостиная гаснет. Секунд двадцать – тьма. Приближается звук: шуршание шин, поскрипывание металла, звяканье велосипедного звонка. Затем скрип и грохот захлопывающейся двери. Выстрел. Грохот. Топот сапог. Крики.
Свет вспыхивает.
Пустая комната, обтянутая серой материей. Несколько фигур, завёрнутых в такие же серые ткани, стоят шеренгой наподобие манекенов. Сквозь неприметное отверстие, как будто из самого тела стены, появляется ещё одна личность в чёрной кожанке, чёрных галифе, чёрной фуражке. Физиономия неподвижна; если приглядеться – она просто нарисована углём на картоне.
Человек в чёрном. Тридцатое августа тысяча девятьсот восемнадцатого года. Гороховая, два, Петроградская Че-Ка. Именем революции. Начинается допрос подозреваемых в политическом заговоре с целью убийства всех и вся. Предупреждаю: то, что вы скажете, уже использовано против вас. Каннегисер Леонид Акимович, дворянин, еврей, двадцати двух лет, ваше слово.
Первый манекен оживает, разворачивает и сбрасывает с себя серые тряпки. Он нам знаком; это Лёня – смуглый, темноглазый, в военном френче без погон.
Лёня. Утром тридцатого августа, в десять часов, я отправился на Марсово поле, где взял напрокат велосипед и направился на нём на Дворцовую площадь, к помещению Комиссариата внутренних дел. В залог за велосипед я оставил пятьсот рублей. Деньги эти я достал, продав кое-какие вещи. К Комиссариату внутренних дел я подъехал в десять тридцать утра. Оставив велосипед снаружи, я вошёл в подъезд и, присев на стул, стал дожидаться приезда Урицкого. Около одиннадцати часов утра подъехал на автомобиле Урицкий. Пропустив его мимо себя, я поднялся со стула и произвёл в него один выстрел, целясь в голову, из револьвера системы «Кольт». Урицкий упал, а я выскочил на улицу, сел на велосипед и бросился через площадь на набережную Невы. Протокол был мне прочитан. Запись признаю правильной[5 - Материалы следственного дела Л. А. Каннегисера пересказываются или цитируются по: Шенталинский В. А. Поэт-террорист. Документальная повесть // Звезда. 2007. № 3.].
Умолкает и остаётся стоять неподвижно. Раскрывается вторая фигура, в хорошем пиджаке, крахмальном воротничке, галстуке.
Иоаким Самуилович. Я, Каннегисер Аким Самуилович, инженер, служу в Центральном народно-промышленном комитете. Сын мой Леонид в последнее время совместно со мной не жил, имея гражданскую жену, которую я не знаю. Где живёт – тоже не знаю. Близких друзей моего сына, посещавших мою квартиру за то время, я назвать не желаю. О совершении убийства моим сыном Урицкого я до сего дня, то есть до моего ареста, не знал. И не слышал от сына, что он к таковому готовится.
Лёня. Мысль об убийстве Урицкого возникла у меня только тогда, когда в печати появились сведения о массовых расстрелах, под которыми имелись подписи Урицкого и Иосилевича. Узнав из газеты о часах приема Урицкого, я решил убить его и выбрал для этого дела день его приёма в Комиссариате внутренних дел…
Иоаким. Леонида сильнейшим образом потрясло опубликование списка двадцати одного расстрелянного, в числе коих был его близкий приятель, а также то, что постановление о расстреле подписано двумя евреями – Урицким и Иосилевичем… (Пауза.) У меня был второй сын, студент университета… Разряжал револьвер, случайно застрелился…
Замолкает, отворачивается к стенке. Третья фигура, женская (после неё – тоже женская, помоложе).
Роза Львовна. Я стояла в стороне от политики, почему не знала, в какой партии состоит Леонид. Мы принадлежим к еврейской нации. И к страданиям еврейского народа мы, то есть наша семья, не относились индифферентно… Особенно религиозного восприятия Леонид не получил и учился уважать свою нацию.
Лулу. За последнее время мой брат дома не жил. Как было слышно, он сошёлся с какой-то женщиной, но кто она и где живёт, мне известно не было. И кто были его близкие друзья и знакомые, которые посещали нашу квартиру, назвать не могу и не знаю. (Отворачивается к стенке.)
Лёня(обращается к стоящим рядом). Умоляю не падать духом. Я совершенно спокоен. Читаю газеты и радуюсь. Был бы вполне счастлив, если бы не мысль о вас. Будете счастливы. (Отворачивается к стенке.)
Роза Львовна. Милый мой! Да хранит тебя Бог. Будь бодр и не падай духом. Милый, дорогой мой Лёвушка, так много хотела бы написать тебе, но не нахожу слов. Но одно хочу сказать тебе, мой бедный мальчик. Всеми мыслями, всеми чувствами я всегда с тобой. Думала ли когда-нибудь, что такое горе стрясётся. Будь мужествен, дорогой мой, будь добр, не падай духом и да хранит тебя Бог! (Отворачивается к стенке.)
Человек в чёрном(достаёт из кармана листки, откашливается, читает). С подлинным верно – секретарь тов. Иосилевич. По постановлению Че-Ка и по постановлениям районных троек за период времени от убийства тов. Урицкого по первое октября… (Откашливается.) Расстреляны… (Слюнявит палец, перелистывает страницу.) По делу убийства тов. Урицкого – Каннегисер Леонид Акимович, бывший член партии народных социалистов…
Звук, подобный грому выстрела. Тьма. Тишина секунд десять.
Свет и кирпичная стена. Вдоль неё слева направо вереницей проходят персонажи предыдущей сцены. Сказав свои слова, исчезают справа.
Персонаж, изображавший Иоакима. Такая вот история. Тут ничего не придумано. Была прекрасная, благополучная семья: и красота, и ум, и богатство, и ничто не предвещало неприятностей.
Изображавший Серёжу. А потом случился семнадцатый год, где-то что-то треснуло и рухнуло, не рядом, а в стороне…
Который был Лёня. И снежная масса понеслась с горы, порвалась цепочка, рассыпался каперс… Что там ещё сказано у Екклесиаста?
Изображавшая Розу. И всё, что было, исчезло в считанные месяцы, а что осталось – то странно изменилось.
Та, что была Лулу. «Да и дорога странно изменилась» – как в одном стихотворении вышеупомянутого Михаила Кузмина.
Который Серёжа. Серёжа вдруг застрелился. Намеренно или случайно – никто не знает, да и не важно.
Тот, что Лёня. Лёня убил подслеповатого Моисея Урицкого и сам получил пулю.
Бывший Иоаким. Аким после череды арестов бежал из Совдепии, как Лот из Содома, чтобы сгинуть в европейском тумане то ли в Париже, то ли в Варшаве.
Бывшая Роза. Жена и дочь с ним. Роза пережила всех. Одинокой старухой умерла, кажется, в 1946 году, в жизнерадостном шуме и пении послевоенной Франции.
Как бы Лулу. Лулу, Елизавета, в 1942 году арестована вишистской полицией в Ницце, депортирована в Освенцим, сожжена в лагерной печи. Всё сбылось – и про меня, и про Кузмина, и про Марину, и про Есенина. Сбылось как было сказано. Все мы прекрасно знаем своё будущее, только боимся и молчим.
Прогулки по тёмным улицам
Да, кто бы мог подумать тогда, в декабре 1915-го (или когда там), что так всё обернётся.
Я знаю ещё одно семейство, тоже прекрасно благополучное, которое было уничтожено внезапным ударом истории, как порыв ветра разрушает шалашик из веточек, сконструированный девочкой для пупса.
Это семейство, в котором родился мой отец. Семейство моей бабушки и моего деда, которых я никогда не видел, потому что они исчезли из этого мира до моего рождения, он – за двадцать два года, она – за восемнадцать лет (приблизительно).
Это семейство жило где-то там, где умер Аким Каннегисер, – в Варшаве. Не знаю, где именно. Возможно, в каком-то предместье Варшавы. Я всё, что знаю, слышал от моей мамы, а она от моего отца. А отец мой умер, когда мне было три года. А когда всё это стряслось, моему отцу тоже было от четырёх до восьми. А родственников никаких у моего отца не осталось, кроме брата, который ещё на два года младше его. Так что подробности можно только домысливать.
Так вот, отец смутно помнил, что было такое светлое время и они с папой и мамой и с маленьким братом жили в своём доме, а вокруг цвели деревья. Судя по всему, они жили в достатке, в хорошем, зелёном предместье Варшавы. Папа был рыжеволосый и высокий. Впрочем, всем малышам папы кажутся очень высокими. Он брал сынишку на руки и поднимал к небу. Это, конечно, было здорово – и страшно, и весело.
А потом что-то стряслось.
Папа исчез.
Он уехал на машине, как обычно, только очень спешил. И пропал.
Что-то гремело в небе, и пришлось бежать из дома.
Собственно говоря, началась война. 1 сентября 1939 года или вскоре после того.
Они бежали из-под сени дерев в Варшаву, но и там гремело. Потом пришли немцы. Потом было что-то ещё, о чём я не знаю и не узнаю никогда, и никто не узнает. Узнаем, когда воскреснем из мертвых. Мама моего папы, то есть моя бабушка, пропала. Тоже пропала.
Какая она бабушка! Ей, наверно, было лет тридцать.
Ушла за продуктами и не вернулась.
В Варшаве незадолго до этого снова гремело и пахло гарью: немцы жгли восставшее еврейское гетто. Тогда же установились странные правила (как для Золушки): в такое-то время можно выйти из дома, а в такое-то нельзя – и немцы стали расстреливать всех, кто нарушит. Молодая бабушка, наверно, задержалась на улице на минуту, когда стало нельзя, и карета превратилась в тыкву, а кучер в крысу… И её расстреляли. Наверно, так. А может быть, ограбили и убили в тёмной подворотне никакие не немцы, а просто грабители. А может, провалилась в люк или на голову упал кирпич. Всё может быть. Во всяком случае, она не вернулась.
Мой папа (про которого никто не мог тогда подумать, что он мой папа) с братиком остались вдвоём. Папе лет восемь, а брату лет шесть. Как-то они там выживали. Это я уже совсем не знаю – как? Знаю, что родственники их выгнали, когда они пришли к этим родственникам. И, в общем, они попали после войны в детский дом. Как они прожили сорок четвёртый год и варшавское восстание, когда кругом уничтожали всё и убивали всех, – тоже не могу себе представить.
Ну а дальше, после войны – нашлись добрые люди, началась другая жизнь в приёмной семье. Школа, успехи, направление на учёбу в СССР. И в итоге я родился. Родился я в Ленинграде, в роддоме «Снегирёвка» на Надеждинской улице. И вырос тоже в Ленинграде, на улице Некрасова, бывшей Бассейной, в доме шестьдесят.