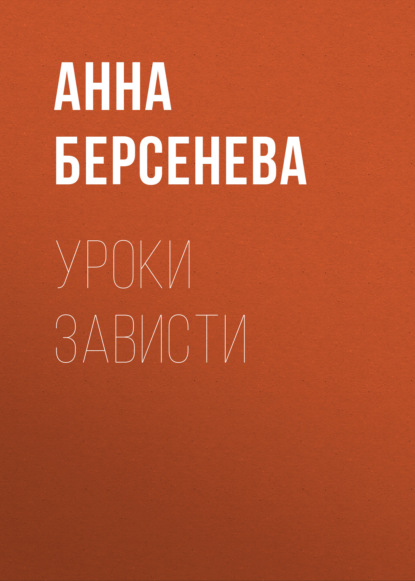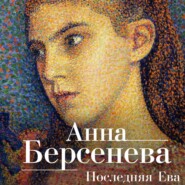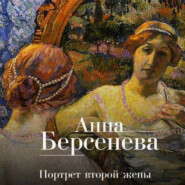По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Уроки зависти
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смеясь, Сашка подмигнула Сане, ведь это именно он щелкнул Кирку по носу. Правда, Любе показалось, что он вовсе не собирался этого делать, но важно ведь не намерение, а результат; так она думала.
– Ну, и где твои Персеиды? – Кира демонстративно зевнула. – Два часа ночи, между прочим. Спать пора. Правда, Царь?
– Пора, – сказал Федор Ильич, вставая. – Я завтра в восемь уезжаю. То есть сегодня уже. Кому в Москву надо, могу захватить.
Он прекращал глупые споры не словами даже, а самим фактом своего существования.
– Мне надо, но я не поеду, – ответила Александра.
Наверное, она ожидала, что ее начнут расспрашивать о смысле этой дурацкой фразы. Но к Сашкиным парадоксам все привыкли, и никто на них особого внимания уже не обращал.
– Маму мою отвези, – сказала Кира. – Она завтра точно поедет. – И разъяснила: – Послезавтра отец из Коктебеля возвращается, маман торжественный прием будет организовывать.
Фанатичное отношение Кириной мамы к своему мужу было всем известно. Окружающие воспринимали его в диапазоне от восхищения до недоумения или даже оторопи.
– Я вам утром в окно стукну, – кивнул Федор Ильич. – Ты ее заранее разбуди только.
Все встали, задвигались. В темноте кто-то столкнул со стола бокал, он покатился по доскам покосившейся веранды, упал на камень у крыльца и разбился с тоненьким звоном. Будь Люба одна, конечно, убрала бы осколки, тем более из-под самых ступенек. Но раз никто не собирается этого делать, что ей, больше всех надо? Они будут про всякие японские штучки рассуждать, а она стекло битое мести? Нет уж.
Кира спустилась с веранды и свернула за угол. Там был вход на другую половину дома, которую занимало семейство Тенета.
Дом, в котором жил Федор Ильич, стоял неподалеку, за сосновым кругом, где разводили костер.
«А вдруг Царь у Сашки останется?» – мелькнуло у Любы в голове.
Она вздрогнула от такого предположения, и все-таки на секунду ей стало интересно: как же они тогда с Саней будут разбираться?
Но на даче Иваровских Царь не остался. Он пошел по заросшей травою тропинке к своему дому – высокий, широкоплечий и даже издалека такой красивый, что сердце у Любы сжималось, когда она смотрела ему вслед. Прямо как у брошенной девушки в песне про стежки-дорожки.
– Пойдем, покажу твою комнату, – глядя на Саню поблескивающими глазами, сказала Сашка.
– Пойдем.
Глаза у него тоже блеснули, хотя и совсем иначе, чем у нее: не дразнящее обещание было в них, а… Непонятно, что в них было! Вернее, Любе просто неинтересно было в этом разбираться.
Глава 3
Саня с Сашкой ушли в дом. Люба посидела еще немного – пусть улягутся. Можно подумать, Сашка и правда его в какую-то отдельную комнату поведет! Уж она, Люба, если бы пригласила парня в гости с ночевкой, то не лицемерила бы, сразу в свою кровать и отвела бы. Ну да и Сашка не из лицемерок – разберется.
Дождавшись, пока в доме смолкнут шаги и шорохи, Люба тоже пошла к себе. Ее комнатка находилась под самой крышей. Александра называла ее мансардой, на парижский манер, хотя на самом деле это был самый обыкновенный чердак, обшитый вагонкой.
Собственно, это была не лично Любина, а просто гостевая комната, но поскольку Люба была на даче Иваровских чем-то средним между очень частым гостем и постоянным обитателем, то можно было считать, что мансарда принадлежит ей.
Дачный поселок Кофельцы построили сразу после войны для Академии наук, но не для самих академиков, а для сотрудников академических институтов. Первые кофельцевские жители были историками, филологами, географами и этнографами. С тех пор все, конечно, переменилось, перемешалось, но людей совсем уж чужеродных в дачном поселке, как ни странно, не завелось.
Постоянство жизни проявлялось среди прочего и в том, что дома, выстроенные сорок лет назад, ни разу капитально не ремонтировались. В восемьдесят пятом году пошел слух, что на кофельцевских дачах будто бы грядет ремонт, но тут началась перестройка, а после нее никому не стало дела даже до самой Академии наук, а уж тем более до академических потомков, которым принадлежали теперь дачные дома.
Да, кстати, дома вообще-то и не принадлежали своим жильцам, а всего лишь сдавались им в аренду, и было непонятно даже, какой станет арендная плата, кому ее надо будет платить, и слухи ходили теперь такие, что никакой арендной платы вообще не потребуется, потому что академия вот-вот начнет избавляться от лишнего имущества, и Кофельцы продадут какому-нибудь новоявленному капиталисту, так как расположены они в живописном месте – старый сосновый парк на холме, река, монастырь за рекою…
Ну да Люба об этом сейчас не думала. Что ей до чужих дач, пусть даже и прошло на них детство и первая юность, но что ей до них, когда собственная жизнь не вызывает ничего, кроме досады?
«Царь меня никогда не полюбит. – Впервые эта мысль прозвучала у нее в голове не вопросительно и тихо, а громко и отчетливо, как литавры. – Никогда! Я для него чужого поля ягода, и что он знает меня с рождения, ничего не значит, и, даже если я хоть сто институтов окончу, ничего не изменится. Все равно я не смогу разговаривать с ним ни про Блока, ни про японскую философию, ни про другое такое же, потому что мне все это ни интересно, ни хотя бы понятно никогда не будет. И ночь не спать ради каких-то Персеид мне тоже никогда не захочется. Я такая, как есть, и он такой, как есть, и ничего с этим не поделаешь!»
Догадка эта ударила ее как молния. Странно, что это случилось только теперь: Люба влюблена была в Федора Ильича столько лет, сколько его знала, вернее, осознавала его существование, и забота о том, как бы ему понравиться, столько же лет ее точила.
Новизна догадки некстати взбодрила ее, напрочь прогнала сон.
Люба сбросила одеяло, встала, распахнула окно. Прохладный воздух большим шаром вкатился в комнату, накаленную дневной жарой.
Она перевесилась через подоконник, покрутила головой, охлаждая пылающие щеки. Ночная тьма была такой плотной, что казалось, ее рукой можно потрогать. Звезды сияли на темном небе неподвижно и остро.
Она выбралась из этой плотной тьмы обратно в комнату, оглянулась. Тускло поблескивало зеркало на противоположной стене мансарды. В зеркале Люба отражалась вся, и тоска ее, наверное, отражалась тоже.
«Ведь я совсем даже ничего себе. – Она подошла поближе к зеркалу, остановилась прямо перед ним, вглядываясь в свое отражение. – Конечно, не красавица, как Сашка, но все-таки внешность оригинальная. И что мама у меня не академик, это не суть, уж для Царя точно – он без предрассудков. Но… Но что же тогда?»
Она смотрела на свое пылающее лицо – даже в темноте было заметно, как алеют от волнения высокие скулы и глаза поблескивают тревожными узкими лепестками. Оригинально, оригинально, что и говорить. Есть даже что-то от японки – вот вам к вашим японским разговорам! – только не от настоящей японки – Люба видела настоящих японок только по телевизору, и все они были какие-то некрасивые, – а от такой, каких рисуют на старинных картинках, где каждое лицо – утонченное произведение искусства.
Бабушка Киры Тенеты была востоковедом, и когда Любина мама ходила к ней убираться и брала с собой маленькую дочку, то Люба всегда рассматривала японские картинки и всегда находила на них себя. Может, конечно, она и фантазировала на свой счет, но некоторое сходство имелось, этого нельзя было отрицать.
Да, ничего в ее внешности не было такого, во что категорически невозможно было бы влюбиться. И вот Женька Смирнов говорил же, что фигура у нее сексапильная. Вспомнив Женьку Смирнова, Люба, впрочем, поежилась: очень уж обыденно, будто само собой разумеется, обнял он ее вечером у подъезда… Она тогда поздно возвращалась из школы после кружка спортивных танцев – с пятого класса занималась, – а Женька поджидал ее у выхода из арки и обнял с какой-то необъяснимой уверенностью. Ну да почему же с необъяснимой? Она ведь не оттолкнула его, а дала себя поцеловать, а когда он повел ее к себе домой – его родители были в отъезде, – то и все ему дала с такой же дурацкой покорностью… И очень все это было объяснимо: не надеялась, что привлечет внимание парня более интересного, чем прыщавый Женька. Как выяснилось, правильно, что не надеялась: вот ей уже восемнадцать лет, а парни обращают на нее не больше внимания, чем на Киру Тенету, ну так Кира всегда была синим чулком и сама не смотрела в их сторону, а она-то никакой не синий чулок, значит…
Что все это значит, думать больше не хотелось. Прохладный воздушный шар, вкатившийся в окно, уже растворился в комнате, и жар ее мыслей ничем не охлаждался извне.
Люба надела сарафан и спустилась из мансарды вниз.
Доски веранды тоже не остыли еще после дневной жары, и казалось, что притаившееся в них солнце щекочет босые пятки.
Она села на нижнюю ступеньку, спрятала ноги в траве. Ноги сразу стали мокрыми от ночной росы, но голова пылала по-прежнему. Любу охватила тоска предутреннего часа – самая, наверное, безнадежная тоска из всех, какие подстерегают человека.
Дверь, ведущая из дома на веранду, открылась у нее за спиной. Люба оглянулась.
«Быстро они, однако! – подумала она. – Или это я долго в кровати вертелась?»
Саня прошел через всю веранду и уселся рядом с Любой на последней ступеньке. Он тоже опустил ноги в траву, и Люба поняла, что ему тоже жарко. Ну, ему-то ясно отчего.
– Не помешаю? – спросил он.
– Нет, – пожала плечами Люба. – А Сашка где?
– Спит.
По такому его ответу нетрудно было догадаться, что Александра в самом деле не стала разводить антимонии, и легли они в одну кровать. Вот, видимо, уже справились со своим приятным делом.
Саня молчал. Его молчание не угнетало, хотя Любу слегка задевало то, что он так явно не видит в ней собеседника.
– Вы с Сашкой красиво пели, – зачем-то сказала она. – Даже странно.
– Почему странно? – усмехнулся он.
– Ну, и где твои Персеиды? – Кира демонстративно зевнула. – Два часа ночи, между прочим. Спать пора. Правда, Царь?
– Пора, – сказал Федор Ильич, вставая. – Я завтра в восемь уезжаю. То есть сегодня уже. Кому в Москву надо, могу захватить.
Он прекращал глупые споры не словами даже, а самим фактом своего существования.
– Мне надо, но я не поеду, – ответила Александра.
Наверное, она ожидала, что ее начнут расспрашивать о смысле этой дурацкой фразы. Но к Сашкиным парадоксам все привыкли, и никто на них особого внимания уже не обращал.
– Маму мою отвези, – сказала Кира. – Она завтра точно поедет. – И разъяснила: – Послезавтра отец из Коктебеля возвращается, маман торжественный прием будет организовывать.
Фанатичное отношение Кириной мамы к своему мужу было всем известно. Окружающие воспринимали его в диапазоне от восхищения до недоумения или даже оторопи.
– Я вам утром в окно стукну, – кивнул Федор Ильич. – Ты ее заранее разбуди только.
Все встали, задвигались. В темноте кто-то столкнул со стола бокал, он покатился по доскам покосившейся веранды, упал на камень у крыльца и разбился с тоненьким звоном. Будь Люба одна, конечно, убрала бы осколки, тем более из-под самых ступенек. Но раз никто не собирается этого делать, что ей, больше всех надо? Они будут про всякие японские штучки рассуждать, а она стекло битое мести? Нет уж.
Кира спустилась с веранды и свернула за угол. Там был вход на другую половину дома, которую занимало семейство Тенета.
Дом, в котором жил Федор Ильич, стоял неподалеку, за сосновым кругом, где разводили костер.
«А вдруг Царь у Сашки останется?» – мелькнуло у Любы в голове.
Она вздрогнула от такого предположения, и все-таки на секунду ей стало интересно: как же они тогда с Саней будут разбираться?
Но на даче Иваровских Царь не остался. Он пошел по заросшей травою тропинке к своему дому – высокий, широкоплечий и даже издалека такой красивый, что сердце у Любы сжималось, когда она смотрела ему вслед. Прямо как у брошенной девушки в песне про стежки-дорожки.
– Пойдем, покажу твою комнату, – глядя на Саню поблескивающими глазами, сказала Сашка.
– Пойдем.
Глаза у него тоже блеснули, хотя и совсем иначе, чем у нее: не дразнящее обещание было в них, а… Непонятно, что в них было! Вернее, Любе просто неинтересно было в этом разбираться.
Глава 3
Саня с Сашкой ушли в дом. Люба посидела еще немного – пусть улягутся. Можно подумать, Сашка и правда его в какую-то отдельную комнату поведет! Уж она, Люба, если бы пригласила парня в гости с ночевкой, то не лицемерила бы, сразу в свою кровать и отвела бы. Ну да и Сашка не из лицемерок – разберется.
Дождавшись, пока в доме смолкнут шаги и шорохи, Люба тоже пошла к себе. Ее комнатка находилась под самой крышей. Александра называла ее мансардой, на парижский манер, хотя на самом деле это был самый обыкновенный чердак, обшитый вагонкой.
Собственно, это была не лично Любина, а просто гостевая комната, но поскольку Люба была на даче Иваровских чем-то средним между очень частым гостем и постоянным обитателем, то можно было считать, что мансарда принадлежит ей.
Дачный поселок Кофельцы построили сразу после войны для Академии наук, но не для самих академиков, а для сотрудников академических институтов. Первые кофельцевские жители были историками, филологами, географами и этнографами. С тех пор все, конечно, переменилось, перемешалось, но людей совсем уж чужеродных в дачном поселке, как ни странно, не завелось.
Постоянство жизни проявлялось среди прочего и в том, что дома, выстроенные сорок лет назад, ни разу капитально не ремонтировались. В восемьдесят пятом году пошел слух, что на кофельцевских дачах будто бы грядет ремонт, но тут началась перестройка, а после нее никому не стало дела даже до самой Академии наук, а уж тем более до академических потомков, которым принадлежали теперь дачные дома.
Да, кстати, дома вообще-то и не принадлежали своим жильцам, а всего лишь сдавались им в аренду, и было непонятно даже, какой станет арендная плата, кому ее надо будет платить, и слухи ходили теперь такие, что никакой арендной платы вообще не потребуется, потому что академия вот-вот начнет избавляться от лишнего имущества, и Кофельцы продадут какому-нибудь новоявленному капиталисту, так как расположены они в живописном месте – старый сосновый парк на холме, река, монастырь за рекою…
Ну да Люба об этом сейчас не думала. Что ей до чужих дач, пусть даже и прошло на них детство и первая юность, но что ей до них, когда собственная жизнь не вызывает ничего, кроме досады?
«Царь меня никогда не полюбит. – Впервые эта мысль прозвучала у нее в голове не вопросительно и тихо, а громко и отчетливо, как литавры. – Никогда! Я для него чужого поля ягода, и что он знает меня с рождения, ничего не значит, и, даже если я хоть сто институтов окончу, ничего не изменится. Все равно я не смогу разговаривать с ним ни про Блока, ни про японскую философию, ни про другое такое же, потому что мне все это ни интересно, ни хотя бы понятно никогда не будет. И ночь не спать ради каких-то Персеид мне тоже никогда не захочется. Я такая, как есть, и он такой, как есть, и ничего с этим не поделаешь!»
Догадка эта ударила ее как молния. Странно, что это случилось только теперь: Люба влюблена была в Федора Ильича столько лет, сколько его знала, вернее, осознавала его существование, и забота о том, как бы ему понравиться, столько же лет ее точила.
Новизна догадки некстати взбодрила ее, напрочь прогнала сон.
Люба сбросила одеяло, встала, распахнула окно. Прохладный воздух большим шаром вкатился в комнату, накаленную дневной жарой.
Она перевесилась через подоконник, покрутила головой, охлаждая пылающие щеки. Ночная тьма была такой плотной, что казалось, ее рукой можно потрогать. Звезды сияли на темном небе неподвижно и остро.
Она выбралась из этой плотной тьмы обратно в комнату, оглянулась. Тускло поблескивало зеркало на противоположной стене мансарды. В зеркале Люба отражалась вся, и тоска ее, наверное, отражалась тоже.
«Ведь я совсем даже ничего себе. – Она подошла поближе к зеркалу, остановилась прямо перед ним, вглядываясь в свое отражение. – Конечно, не красавица, как Сашка, но все-таки внешность оригинальная. И что мама у меня не академик, это не суть, уж для Царя точно – он без предрассудков. Но… Но что же тогда?»
Она смотрела на свое пылающее лицо – даже в темноте было заметно, как алеют от волнения высокие скулы и глаза поблескивают тревожными узкими лепестками. Оригинально, оригинально, что и говорить. Есть даже что-то от японки – вот вам к вашим японским разговорам! – только не от настоящей японки – Люба видела настоящих японок только по телевизору, и все они были какие-то некрасивые, – а от такой, каких рисуют на старинных картинках, где каждое лицо – утонченное произведение искусства.
Бабушка Киры Тенеты была востоковедом, и когда Любина мама ходила к ней убираться и брала с собой маленькую дочку, то Люба всегда рассматривала японские картинки и всегда находила на них себя. Может, конечно, она и фантазировала на свой счет, но некоторое сходство имелось, этого нельзя было отрицать.
Да, ничего в ее внешности не было такого, во что категорически невозможно было бы влюбиться. И вот Женька Смирнов говорил же, что фигура у нее сексапильная. Вспомнив Женьку Смирнова, Люба, впрочем, поежилась: очень уж обыденно, будто само собой разумеется, обнял он ее вечером у подъезда… Она тогда поздно возвращалась из школы после кружка спортивных танцев – с пятого класса занималась, – а Женька поджидал ее у выхода из арки и обнял с какой-то необъяснимой уверенностью. Ну да почему же с необъяснимой? Она ведь не оттолкнула его, а дала себя поцеловать, а когда он повел ее к себе домой – его родители были в отъезде, – то и все ему дала с такой же дурацкой покорностью… И очень все это было объяснимо: не надеялась, что привлечет внимание парня более интересного, чем прыщавый Женька. Как выяснилось, правильно, что не надеялась: вот ей уже восемнадцать лет, а парни обращают на нее не больше внимания, чем на Киру Тенету, ну так Кира всегда была синим чулком и сама не смотрела в их сторону, а она-то никакой не синий чулок, значит…
Что все это значит, думать больше не хотелось. Прохладный воздушный шар, вкатившийся в окно, уже растворился в комнате, и жар ее мыслей ничем не охлаждался извне.
Люба надела сарафан и спустилась из мансарды вниз.
Доски веранды тоже не остыли еще после дневной жары, и казалось, что притаившееся в них солнце щекочет босые пятки.
Она села на нижнюю ступеньку, спрятала ноги в траве. Ноги сразу стали мокрыми от ночной росы, но голова пылала по-прежнему. Любу охватила тоска предутреннего часа – самая, наверное, безнадежная тоска из всех, какие подстерегают человека.
Дверь, ведущая из дома на веранду, открылась у нее за спиной. Люба оглянулась.
«Быстро они, однако! – подумала она. – Или это я долго в кровати вертелась?»
Саня прошел через всю веранду и уселся рядом с Любой на последней ступеньке. Он тоже опустил ноги в траву, и Люба поняла, что ему тоже жарко. Ну, ему-то ясно отчего.
– Не помешаю? – спросил он.
– Нет, – пожала плечами Люба. – А Сашка где?
– Спит.
По такому его ответу нетрудно было догадаться, что Александра в самом деле не стала разводить антимонии, и легли они в одну кровать. Вот, видимо, уже справились со своим приятным делом.
Саня молчал. Его молчание не угнетало, хотя Любу слегка задевало то, что он так явно не видит в ней собеседника.
– Вы с Сашкой красиво пели, – зачем-то сказала она. – Даже странно.
– Почему странно? – усмехнулся он.