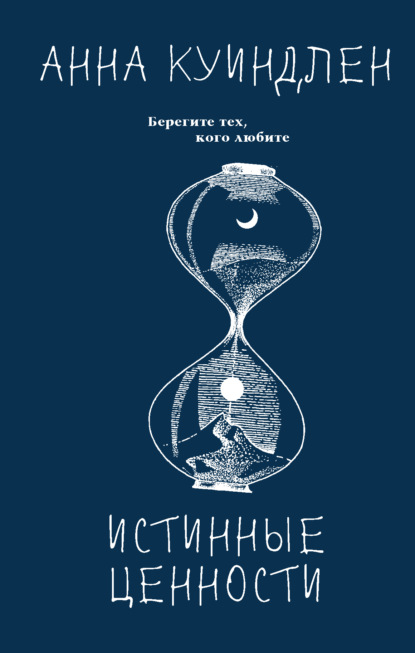По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Истинные ценности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И ты мог бы получать деньги за то, что играешь в теннис, – возразила я. – Это называется «профессиональный игрок».
– Ну да, с нашим-то отцом? – высасывая растаявшее мороженое со дна своего вафельного рожка, заметил Джефф. – Извини, па, мол, мистер Духовная Жизнь. Я тут решил отправиться на Хилтон-Хед, чтобы стать теннисным профи, но в свободное время обещаю читать Флобера.
– Разве нельзя начать строить свою жизнь, не оглядываясь на папочку? – спросила я.
Мои братья разразились непочтительным смехом и гиканьем.
– Нет, вы только послушайте! – воскликнул Джефф. – Эллен Гулден отрекается от отцовского благословения, причем с опозданием всего-навсего на двадцать четыре года.
– Маме нравится все, что я делаю, – заметил Брайан.
– Ну да, маме, – сказал Джефф.
– Джеффри, приятель, – позвал кто-то с другого конца парковки. – Брайан!
Мои братья дружно замахали руками в знак приветствия.
– Как дела? – крикнул в ответ Джефф.
– Я здесь изгой, – вздохнула я.
– Ты им была, когда жила здесь, – возразил Джефф. – Без обид, Эл! Ты как голодная шавка, а мир не любит голодных шавок. Люди их боятся: как бы не укусили.
– Почему ты говоришь словно радиокомментатор? – обиделась я.
– Видишь, Брай? Эллен вообще не способна расслабиться. Ей самое место в Нью-Йорке, среди таких же дерганых, как она. Бывай здорова, голодная шавка! Отправляйся туда, где собаки жрут собак.
Из-за низких облаков солнце было тускло-желтым, как одинокая лампочка в темной комнате. Асфальт под нашими ногами плавился, и угольная вонь витала над Лангхорном, точно удушающий аромат духов на коктейльной вечеринке. Отец вернулся поздно вечером (но мы к этому привыкли), некоторое время постоял в гостиной, привалившись к дверному косяку, затем пошел наверх, устало волоча ноги и непривычно молчаливый.
В этом не было ничего странного для мальчиков, с которыми у него установилась натянутая и несколько механическая манера общения, как и у многих отцов, но странно для меня. Мне всегда казалось, что я знаю, о чем думает отец, что чувствует. Когда бы я ни возвратилась домой: из колледжа, а потом из Нью-Йорка, – он зазывал меня в свой кабинет с темной мебелью и тусклым коричневатым освещением, наклонялся вперед в кресле и просто говорил:
– Ну, рассказывай.
И я выкладывала ему все: об известном писателе, который читал нам лекцию; о дискуссиях на тему синтаксиса между мной и редакторами; о соседе снизу, который изысканно, но несколько монотонно исполнял Скарлатти на маленьком старинном клавесине (я как-то углядела его в открытую дверь квартиры).
Частенько у меня возникало ощущение, будто я Шахерезада, развлекающая султана, или чиновница с квартальным отчетом перед правительственным бюрократом. Нередко мне приходилось истории и чудесные сказки сочинять, и тогда мой отец, бывало, откидывался на спинку кресла, и его лицо приобретало расслабленное выражение величайшего сосредоточения, как в те минуты, когда читал лекции студентам. Иногда в конце он говорил: «Интересно». И я была счастлива.
В тот день мама была в больнице и, как всегда в такие дни, дом без нее казался чем-то вроде театральной декорации. Да, это был ее дом. Сейчас, если при мне кого-то называют хозяйкой дома – такое случается нечасто, – я всегда думаю о маме. Она очень старалась вести дом и делала это замечательно. Готовила полезную для здоровья еду, посещала кулинарные курсы, убирала во всех комнатах дома, повязав на голову косынку, чтобы спрятать яркие волосы, – прямо рекламная картинка. Оклеивая комнату обоями, мама всегда оклеивала заодно и картонную рамку, чтобы потом поставить на письменный стол или прикроватную тумбочку с семейной фотографией внутри.
На двух самых больших фотографиях в гостиной были запечатлены наши отец и мать. На первой они вместе стоят на нашем переднем крыльце. Мама обеими руками сжимает руку отца, и ее лицо озаряет сияющая улыбка. Будто нет в жизни большего счастья, чем вот это: этот день, это место и этот мужчина. Она стоит, слегка наклонившись в его сторону, но он смотрит прямо в камеру, скрестив руки на груди; лицо серьезное, а глаза смеются.
Как-то раз Джонатан, когда мы с ним еще были любовниками, взял с пианино эту фотографию и сказал, что на ней отец выглядит так, будто готов вырвать из вашей груди сердце, зажарить и съесть на обед, закусив на десерт женой. Довольно точное описание, учитывая сложные отношения между Джонатаном и моим отцом – взаимоотношения двух мужчин, которые воюют друг с другом из-за сердца одной и той же женщины.
Интересно, держит ли отец эту фотографию по-прежнему на пианино? Или теперь мама озаряет своей сияющей улыбкой пыльное и темное нутро выдвижного ящика стола?
Рядом с первой стояла вторая фотография, на которой мама так же льнет к руке отца, а за другую его руку цепляюсь я, в платье и кепке. Фото сделано Джонатаном. Сегодня оно стоит на моем туалетном столике, самое вещественное из сохранившихся у меня доказательств существования семейного треугольника Гулденов.
Мама бы весьма опечалилась, глядя на мою нынешнюю квартиру, на грязновато-белую обивку дивана и как попало расставленные напольные лампы. Моя квартира – это дом женщины, которую никак не назовешь хозяйкой. Эта женщина прослушивает сообщения на автоответчике и снова убегает по делам.
Но мама не стала бы меня критиковать, как другие матери. Вместо этого она купила бы мне кое-что из вещей: дешевую, но красивую гравюру, для которой сама подобрала бы рамку, или какое-нибудь покрывало. И, набрасывая покрывало или вешая картину, она бы сказала с улыбкой: «Мы с тобой такие разные! Правда, Элли?» – но все равно не поняла бы, как не понимала раньше, раз за разом повторяя эту фразу: если ты отличаешься от тех, кем все восхищаются, значит, с тобой что-то не так.
Мама любила хозяйственный магазин Фелпса, и тамошние продавцы отвечали ей любовью. Отец, бывало, всегда ее поддразнивал: «Она снова оплатила Фелпсу ежемесячный взнос по ипотеке, поскольку стала единственной особой женского пола, узурпировавшей право на тунговое масло и ершики для мытья посуды!»
Отец всегда ее дразнил, а для разговоров у него была я.
Это был зачарованный день нашего зачарованного существования, которым мы жили, я и мои братья; день, когда мы отправились в кафе-мороженое. Ясно помню его даже сейчас. Потом мы валялись на траве на нашем заднем дворе, жарили и ели гамбургеры, смотрели телевизор. А на следующее утро отец спустился вниз, в мятых брюках цвета хаки, с закатанными по локоть рукавами голубой рубахи, и, опершись о кухонный стол, велел нам сесть. Я устроилась напротив него со стаканом апельсинового сока в руке, а братья уселись на стулья с перегородчатыми спинками, сиденья которых мама обтянула когда-то тростниковыми чехлами, каждый на своем углу кухонного стола. Я привожу эти детали не описания ради, а отдаю должное маме: в этом состояла вся ее жизнь, – мне же в то время подобные вещи внушали лишь презрение.
Когда я была маленькой, она иногда мне пела, чтобы поскорее заснула, хотя я предпочитала, чтобы это делал отец, потому что он придумывал песни, полные бессмысленной чепухи. «Вот тебе колыбельная: спокойной ночи, феттучини Альфредо! Колыбельная на добрую ночь, ригатони Болоньезе!» А мама пела что-нибудь скучное, где раз за разом повторялись слова «жива и здорова». От них-то я и засыпала. Отец всегда меня заводил; мама успокаивала. То же самое они проделывали друг с другом, а на мне, как иногда я думаю, тренировались.
Я вспоминаю. Это то, что я делаю теперь, чтобы жить. Зарабатываю себе на жизнь, устанавливаю жизненные ориентиры – через воспоминания. У меня хорошая память. Помню апельсиновый сок на столе и Брайана, который нагнулся чуть не до пола, чтобы снова и снова забрасывать мяч в рукавицу. Стакан был наполовину пуст, а стол был дубовый – большая круглая луна на прочном пьедестале с хищно растопыренными когтистыми лапами в основании. Мама спасла этот стол из лавки старьевщика, счистила старый лак и отполировала заново, орудуя воском так энергично, что мускулы на ее руках сами делались похожими на бледную полированную древесину.
– Рак, – сказал отец, когда мы уселись вокруг этого стола. – Некоторые смутные признаки, симптомы, появились давно, ее тошнило, но ваша мама затянула с этим: сначала решила, будто у нее грипп, потом вообразила, что ждет ребенка. Не хотела нас волновать: вы же ее знаете…
Мы сидели с поникшими головами, смущенные мыслью, что наша мать в свои сорок шесть могла подумать, будто забеременела. Мне было двадцать четыре, Джеффу двадцать, Браю восемнадцать. Посмотрите на эти числа, и поймете, что наше рождение было запланированным. Ведь мы-то ее знали.
В конце недели братьям предстояло вернуться в колледж. Чемоданы были уже упакованы и стояли наготове посреди комнат. А я и вовсе приехала из Нью-Йорка погостить всего на четыре дня, даже вещи не разбирала – только вынула одежду из спортивной сумки, которую бросила на столик в изножье кровати. Выдвижные ящики, выстланные бумагой в цветочек, оставались пустыми. Мне казалось, четырех дней на все про все хватит с лихвой. Задержусь дольше, и пропущу книжную вечеринку и завтрак с редактором важного журнала. Неделя в клинике, сказала она нам, придется удалить матку. По мне, так это нормально для женщины сорока шести лет, которая давно завязала с рождением детей. И лишь теперь, когда с каждым днем становлюсь старше, я понимаю, что нет ничего нормального, когда теряешь то, что делает тебя женщиной, – будь то грудь или матка, ребенок или мужчина.
Смешно: упоминание о беременности стало для нас большим потрясением, чем слово «рак», – в это нам верилось с трудом. Я вдруг догадалась, почему месяцем раньше мама казалась такой веселой, когда повела меня в город на обед в день моего рождения, и ее прозрачная кожа, какая часто встречается у рыжеволосых, то и дело вспыхивала ярко-розовым румянцем. Женщина сорока шести лет, которую так и подмывало спросить у дочери, искушенной обитательницы Нью-Йорка, где можно купить красивую одежду для беременной. И меня до сих пор пронзает боль, когда я думаю, что творилось тогда у нее в голове, прежде чем она наконец узнала, что именно с ней происходит.
– Химиотерапия. – Отец сказал еще что-то, только я не расслышала. – Печень… яичники… онколог…
Я схватила свой стакан и выбежала из комнаты.
– Эллен, я еще не все сказал! – крикнул отец мне вслед.
– Не могу больше слушать!
Я уселась на переднем крыльце в плетеное кресло с подушкой, которую, разумеется, сшила мама.
Вещи, которые продавались в антикварных лавках в моем нью-йоркском квартале, были очень похожи на те, что мать покупала много лет назад: старинные квадратные комоды из красновато-коричневого вишневого дерева, лоскутные одеяла и плетеные диванчики, выкрашенные в белый цвет. Мы жили в самом красивом квартале Лангхорна, но дом был маленький: обшитый белой доской фермерский коттедж, оставшийся от той эпохи, когда окружающие холмы были сельскохозяйственными угодьями, а колледж – поместьем Сэмюела Лангхорна, который на заре промышленной революции сделал состояние производством деталей для станков.
Наш дом напоминал пони, который осторожно прокладывал себе путь в табуне лошадей: раскрашенная миниатюра, фрагмент настенной живописи, но такой же красивый внутри благодаря стараниям нашей матери. Выйдя замуж за человека, которому не суждено было стать богатым, мама говорила, что ей все равно: зато у него призвание! Бывшая прихожанка католической церкви – или, может, в сердце своем мама так и осталась католичкой, – она формулировала это именно так, словно отец сделался священником или по крайней мере принял обет, хотя его «семь таинств» обычно обнаруживались в университетском каталоге: например, «Введение в поэзию Викторианской эпохи» или «Романтики и времена любви»…
Даже в самом красивом своем квартале, где большинство жителей были слишком богаты, чтобы работать в колледже, Лангхорн сохранял-таки необычное ощущение города, который старается казаться большим, чем есть на самом деле. Таковы, к примеру, Вашингтон и Орландо во Флориде, где есть Диснеевский парк. И Бостон. Когда уехала учиться в университет в Бостоне – или в Кембридж, как привыкали говорить все студенты Гарварда, – я была убеждена, что сделала это по причине страстного желания выйти на простор, поселиться в более космополитичном окружении и выбраться наконец из-под колпака Лангхорна, где каждый знал и мое имя, и мое общественное положение среди сливок общества. И, разумеется, я хотела спать с Джонатаном в любое время, когда заблагорассудится, а он был в Гарварде, так что я тоже ринулась туда. Я всегда боялась, что если я не заберусь в постель к Джонатану, чтобы согревать его вечно холодные ноги, то наверняка там очень быстро окажется другая.
Только вот правда заключается в том, что Кембридж и Лангхорн во многом очень похожи, и не только потому, что в Кембридже полно духовных коллег отца, наводнявших улицы с номером «Таймс» под мышкой, в подкатанных, пузырящихся на коленях брюках-чино. Все университетские городки одинаковы. Странно, если подумать о корнях всех этих людей, которые селятся в местах, которые для остальных все равно что временный лагерь.
Я сидела на крыльце и смотрела на расположенный напротив дом семейства Бакли, как делала тысячи раз прежде: штукатурка в стиле тюдор, рододендроны и засаженный многолетними растениями сад, теряющий свои младенчески-розовые, белые и голубые цвета. С моего прошлого приезда домой добавилась новая деталь – в окнах гостиной появились воздушные занавески.
На окнах моей нью-йоркской квартиры занавесок не было. В прошлом месяце, когда мама приезжала ко мне, идея состояла не только в том, чтобы вместе пообедать, но и прикинуть, какие предметы мебели, хранящиеся в подвале, украсят две мои небольшие комнатки.
– Твои окна ничем не закрыты! – воскликнула мать. – Весь мир может любоваться на то, как ты переодеваешься!
– Ох, мама, подумаешь, какая беда, – возразила я. – Тут вокруг живут одни геи.
Провалиться мне на месте, если я признаюсь ей, что в самый первый раз, сняв в собственной спальне рубашку, я оглянулась на освещенные янтарным светом ламп окна, в которых текла чужая жизнь, и поспешно прикрыла грудь, и что после того случая я одевалась и раздевалась исключительно в ванной, где не было окон, точно девственница в свой медовый месяц.
Но чтоб мне лопнуть, если я вздумаю повесить тюлевые или кружевные шторы или эти дурацкие узкие жалюзи. Когда я обзавелась собственным жильем, одним из удовольствий стало наблюдать, как утренний свет каждое утро ложится на покрытый царапинами деревянный пол, как ближе к вечеру мягкий желтый свет медленно прокрадывается в мою спальню, как ранним вечером за моим окном встает луна.
– Ну да, с нашим-то отцом? – высасывая растаявшее мороженое со дна своего вафельного рожка, заметил Джефф. – Извини, па, мол, мистер Духовная Жизнь. Я тут решил отправиться на Хилтон-Хед, чтобы стать теннисным профи, но в свободное время обещаю читать Флобера.
– Разве нельзя начать строить свою жизнь, не оглядываясь на папочку? – спросила я.
Мои братья разразились непочтительным смехом и гиканьем.
– Нет, вы только послушайте! – воскликнул Джефф. – Эллен Гулден отрекается от отцовского благословения, причем с опозданием всего-навсего на двадцать четыре года.
– Маме нравится все, что я делаю, – заметил Брайан.
– Ну да, маме, – сказал Джефф.
– Джеффри, приятель, – позвал кто-то с другого конца парковки. – Брайан!
Мои братья дружно замахали руками в знак приветствия.
– Как дела? – крикнул в ответ Джефф.
– Я здесь изгой, – вздохнула я.
– Ты им была, когда жила здесь, – возразил Джефф. – Без обид, Эл! Ты как голодная шавка, а мир не любит голодных шавок. Люди их боятся: как бы не укусили.
– Почему ты говоришь словно радиокомментатор? – обиделась я.
– Видишь, Брай? Эллен вообще не способна расслабиться. Ей самое место в Нью-Йорке, среди таких же дерганых, как она. Бывай здорова, голодная шавка! Отправляйся туда, где собаки жрут собак.
Из-за низких облаков солнце было тускло-желтым, как одинокая лампочка в темной комнате. Асфальт под нашими ногами плавился, и угольная вонь витала над Лангхорном, точно удушающий аромат духов на коктейльной вечеринке. Отец вернулся поздно вечером (но мы к этому привыкли), некоторое время постоял в гостиной, привалившись к дверному косяку, затем пошел наверх, устало волоча ноги и непривычно молчаливый.
В этом не было ничего странного для мальчиков, с которыми у него установилась натянутая и несколько механическая манера общения, как и у многих отцов, но странно для меня. Мне всегда казалось, что я знаю, о чем думает отец, что чувствует. Когда бы я ни возвратилась домой: из колледжа, а потом из Нью-Йорка, – он зазывал меня в свой кабинет с темной мебелью и тусклым коричневатым освещением, наклонялся вперед в кресле и просто говорил:
– Ну, рассказывай.
И я выкладывала ему все: об известном писателе, который читал нам лекцию; о дискуссиях на тему синтаксиса между мной и редакторами; о соседе снизу, который изысканно, но несколько монотонно исполнял Скарлатти на маленьком старинном клавесине (я как-то углядела его в открытую дверь квартиры).
Частенько у меня возникало ощущение, будто я Шахерезада, развлекающая султана, или чиновница с квартальным отчетом перед правительственным бюрократом. Нередко мне приходилось истории и чудесные сказки сочинять, и тогда мой отец, бывало, откидывался на спинку кресла, и его лицо приобретало расслабленное выражение величайшего сосредоточения, как в те минуты, когда читал лекции студентам. Иногда в конце он говорил: «Интересно». И я была счастлива.
В тот день мама была в больнице и, как всегда в такие дни, дом без нее казался чем-то вроде театральной декорации. Да, это был ее дом. Сейчас, если при мне кого-то называют хозяйкой дома – такое случается нечасто, – я всегда думаю о маме. Она очень старалась вести дом и делала это замечательно. Готовила полезную для здоровья еду, посещала кулинарные курсы, убирала во всех комнатах дома, повязав на голову косынку, чтобы спрятать яркие волосы, – прямо рекламная картинка. Оклеивая комнату обоями, мама всегда оклеивала заодно и картонную рамку, чтобы потом поставить на письменный стол или прикроватную тумбочку с семейной фотографией внутри.
На двух самых больших фотографиях в гостиной были запечатлены наши отец и мать. На первой они вместе стоят на нашем переднем крыльце. Мама обеими руками сжимает руку отца, и ее лицо озаряет сияющая улыбка. Будто нет в жизни большего счастья, чем вот это: этот день, это место и этот мужчина. Она стоит, слегка наклонившись в его сторону, но он смотрит прямо в камеру, скрестив руки на груди; лицо серьезное, а глаза смеются.
Как-то раз Джонатан, когда мы с ним еще были любовниками, взял с пианино эту фотографию и сказал, что на ней отец выглядит так, будто готов вырвать из вашей груди сердце, зажарить и съесть на обед, закусив на десерт женой. Довольно точное описание, учитывая сложные отношения между Джонатаном и моим отцом – взаимоотношения двух мужчин, которые воюют друг с другом из-за сердца одной и той же женщины.
Интересно, держит ли отец эту фотографию по-прежнему на пианино? Или теперь мама озаряет своей сияющей улыбкой пыльное и темное нутро выдвижного ящика стола?
Рядом с первой стояла вторая фотография, на которой мама так же льнет к руке отца, а за другую его руку цепляюсь я, в платье и кепке. Фото сделано Джонатаном. Сегодня оно стоит на моем туалетном столике, самое вещественное из сохранившихся у меня доказательств существования семейного треугольника Гулденов.
Мама бы весьма опечалилась, глядя на мою нынешнюю квартиру, на грязновато-белую обивку дивана и как попало расставленные напольные лампы. Моя квартира – это дом женщины, которую никак не назовешь хозяйкой. Эта женщина прослушивает сообщения на автоответчике и снова убегает по делам.
Но мама не стала бы меня критиковать, как другие матери. Вместо этого она купила бы мне кое-что из вещей: дешевую, но красивую гравюру, для которой сама подобрала бы рамку, или какое-нибудь покрывало. И, набрасывая покрывало или вешая картину, она бы сказала с улыбкой: «Мы с тобой такие разные! Правда, Элли?» – но все равно не поняла бы, как не понимала раньше, раз за разом повторяя эту фразу: если ты отличаешься от тех, кем все восхищаются, значит, с тобой что-то не так.
Мама любила хозяйственный магазин Фелпса, и тамошние продавцы отвечали ей любовью. Отец, бывало, всегда ее поддразнивал: «Она снова оплатила Фелпсу ежемесячный взнос по ипотеке, поскольку стала единственной особой женского пола, узурпировавшей право на тунговое масло и ершики для мытья посуды!»
Отец всегда ее дразнил, а для разговоров у него была я.
Это был зачарованный день нашего зачарованного существования, которым мы жили, я и мои братья; день, когда мы отправились в кафе-мороженое. Ясно помню его даже сейчас. Потом мы валялись на траве на нашем заднем дворе, жарили и ели гамбургеры, смотрели телевизор. А на следующее утро отец спустился вниз, в мятых брюках цвета хаки, с закатанными по локоть рукавами голубой рубахи, и, опершись о кухонный стол, велел нам сесть. Я устроилась напротив него со стаканом апельсинового сока в руке, а братья уселись на стулья с перегородчатыми спинками, сиденья которых мама обтянула когда-то тростниковыми чехлами, каждый на своем углу кухонного стола. Я привожу эти детали не описания ради, а отдаю должное маме: в этом состояла вся ее жизнь, – мне же в то время подобные вещи внушали лишь презрение.
Когда я была маленькой, она иногда мне пела, чтобы поскорее заснула, хотя я предпочитала, чтобы это делал отец, потому что он придумывал песни, полные бессмысленной чепухи. «Вот тебе колыбельная: спокойной ночи, феттучини Альфредо! Колыбельная на добрую ночь, ригатони Болоньезе!» А мама пела что-нибудь скучное, где раз за разом повторялись слова «жива и здорова». От них-то я и засыпала. Отец всегда меня заводил; мама успокаивала. То же самое они проделывали друг с другом, а на мне, как иногда я думаю, тренировались.
Я вспоминаю. Это то, что я делаю теперь, чтобы жить. Зарабатываю себе на жизнь, устанавливаю жизненные ориентиры – через воспоминания. У меня хорошая память. Помню апельсиновый сок на столе и Брайана, который нагнулся чуть не до пола, чтобы снова и снова забрасывать мяч в рукавицу. Стакан был наполовину пуст, а стол был дубовый – большая круглая луна на прочном пьедестале с хищно растопыренными когтистыми лапами в основании. Мама спасла этот стол из лавки старьевщика, счистила старый лак и отполировала заново, орудуя воском так энергично, что мускулы на ее руках сами делались похожими на бледную полированную древесину.
– Рак, – сказал отец, когда мы уселись вокруг этого стола. – Некоторые смутные признаки, симптомы, появились давно, ее тошнило, но ваша мама затянула с этим: сначала решила, будто у нее грипп, потом вообразила, что ждет ребенка. Не хотела нас волновать: вы же ее знаете…
Мы сидели с поникшими головами, смущенные мыслью, что наша мать в свои сорок шесть могла подумать, будто забеременела. Мне было двадцать четыре, Джеффу двадцать, Браю восемнадцать. Посмотрите на эти числа, и поймете, что наше рождение было запланированным. Ведь мы-то ее знали.
В конце недели братьям предстояло вернуться в колледж. Чемоданы были уже упакованы и стояли наготове посреди комнат. А я и вовсе приехала из Нью-Йорка погостить всего на четыре дня, даже вещи не разбирала – только вынула одежду из спортивной сумки, которую бросила на столик в изножье кровати. Выдвижные ящики, выстланные бумагой в цветочек, оставались пустыми. Мне казалось, четырех дней на все про все хватит с лихвой. Задержусь дольше, и пропущу книжную вечеринку и завтрак с редактором важного журнала. Неделя в клинике, сказала она нам, придется удалить матку. По мне, так это нормально для женщины сорока шести лет, которая давно завязала с рождением детей. И лишь теперь, когда с каждым днем становлюсь старше, я понимаю, что нет ничего нормального, когда теряешь то, что делает тебя женщиной, – будь то грудь или матка, ребенок или мужчина.
Смешно: упоминание о беременности стало для нас большим потрясением, чем слово «рак», – в это нам верилось с трудом. Я вдруг догадалась, почему месяцем раньше мама казалась такой веселой, когда повела меня в город на обед в день моего рождения, и ее прозрачная кожа, какая часто встречается у рыжеволосых, то и дело вспыхивала ярко-розовым румянцем. Женщина сорока шести лет, которую так и подмывало спросить у дочери, искушенной обитательницы Нью-Йорка, где можно купить красивую одежду для беременной. И меня до сих пор пронзает боль, когда я думаю, что творилось тогда у нее в голове, прежде чем она наконец узнала, что именно с ней происходит.
– Химиотерапия. – Отец сказал еще что-то, только я не расслышала. – Печень… яичники… онколог…
Я схватила свой стакан и выбежала из комнаты.
– Эллен, я еще не все сказал! – крикнул отец мне вслед.
– Не могу больше слушать!
Я уселась на переднем крыльце в плетеное кресло с подушкой, которую, разумеется, сшила мама.
Вещи, которые продавались в антикварных лавках в моем нью-йоркском квартале, были очень похожи на те, что мать покупала много лет назад: старинные квадратные комоды из красновато-коричневого вишневого дерева, лоскутные одеяла и плетеные диванчики, выкрашенные в белый цвет. Мы жили в самом красивом квартале Лангхорна, но дом был маленький: обшитый белой доской фермерский коттедж, оставшийся от той эпохи, когда окружающие холмы были сельскохозяйственными угодьями, а колледж – поместьем Сэмюела Лангхорна, который на заре промышленной революции сделал состояние производством деталей для станков.
Наш дом напоминал пони, который осторожно прокладывал себе путь в табуне лошадей: раскрашенная миниатюра, фрагмент настенной живописи, но такой же красивый внутри благодаря стараниям нашей матери. Выйдя замуж за человека, которому не суждено было стать богатым, мама говорила, что ей все равно: зато у него призвание! Бывшая прихожанка католической церкви – или, может, в сердце своем мама так и осталась католичкой, – она формулировала это именно так, словно отец сделался священником или по крайней мере принял обет, хотя его «семь таинств» обычно обнаруживались в университетском каталоге: например, «Введение в поэзию Викторианской эпохи» или «Романтики и времена любви»…
Даже в самом красивом своем квартале, где большинство жителей были слишком богаты, чтобы работать в колледже, Лангхорн сохранял-таки необычное ощущение города, который старается казаться большим, чем есть на самом деле. Таковы, к примеру, Вашингтон и Орландо во Флориде, где есть Диснеевский парк. И Бостон. Когда уехала учиться в университет в Бостоне – или в Кембридж, как привыкали говорить все студенты Гарварда, – я была убеждена, что сделала это по причине страстного желания выйти на простор, поселиться в более космополитичном окружении и выбраться наконец из-под колпака Лангхорна, где каждый знал и мое имя, и мое общественное положение среди сливок общества. И, разумеется, я хотела спать с Джонатаном в любое время, когда заблагорассудится, а он был в Гарварде, так что я тоже ринулась туда. Я всегда боялась, что если я не заберусь в постель к Джонатану, чтобы согревать его вечно холодные ноги, то наверняка там очень быстро окажется другая.
Только вот правда заключается в том, что Кембридж и Лангхорн во многом очень похожи, и не только потому, что в Кембридже полно духовных коллег отца, наводнявших улицы с номером «Таймс» под мышкой, в подкатанных, пузырящихся на коленях брюках-чино. Все университетские городки одинаковы. Странно, если подумать о корнях всех этих людей, которые селятся в местах, которые для остальных все равно что временный лагерь.
Я сидела на крыльце и смотрела на расположенный напротив дом семейства Бакли, как делала тысячи раз прежде: штукатурка в стиле тюдор, рододендроны и засаженный многолетними растениями сад, теряющий свои младенчески-розовые, белые и голубые цвета. С моего прошлого приезда домой добавилась новая деталь – в окнах гостиной появились воздушные занавески.
На окнах моей нью-йоркской квартиры занавесок не было. В прошлом месяце, когда мама приезжала ко мне, идея состояла не только в том, чтобы вместе пообедать, но и прикинуть, какие предметы мебели, хранящиеся в подвале, украсят две мои небольшие комнатки.
– Твои окна ничем не закрыты! – воскликнула мать. – Весь мир может любоваться на то, как ты переодеваешься!
– Ох, мама, подумаешь, какая беда, – возразила я. – Тут вокруг живут одни геи.
Провалиться мне на месте, если я признаюсь ей, что в самый первый раз, сняв в собственной спальне рубашку, я оглянулась на освещенные янтарным светом ламп окна, в которых текла чужая жизнь, и поспешно прикрыла грудь, и что после того случая я одевалась и раздевалась исключительно в ванной, где не было окон, точно девственница в свой медовый месяц.
Но чтоб мне лопнуть, если я вздумаю повесить тюлевые или кружевные шторы или эти дурацкие узкие жалюзи. Когда я обзавелась собственным жильем, одним из удовольствий стало наблюдать, как утренний свет каждое утро ложится на покрытый царапинами деревянный пол, как ближе к вечеру мягкий желтый свет медленно прокрадывается в мою спальню, как ранним вечером за моим окном встает луна.