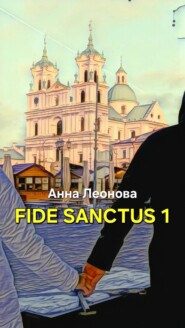По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Fide Sanctus 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я была почти рада, что стою к тебе спиной; что не вижу твоих глаз.
Когда ты хотел меня, они пылали до того оголтелым безумием, что я их боялась.
Ты подхватил меня под бедро и подвинул ближе к нам высокий стул; я встала на него коленом, запрокинула голову и уткнулась губами в твою шею.
И в этот момент всё наше прошлое показалось мне выдумкой.
А осознание того, что ты мой, – обострением бреда.
Ты обхватил мой затылок и замер – словно разделяя игру.
Словно строчки поэта должны были давать зелёный свет твоим движениям.
– Знаешь… я хочу… чтобы февральская вьюга… покорно у ног твоих распласталась… – бессвязно прошептала я, коснувшись языком твоего кадыка.
Ты хрипло охнул, и моё сердце безвольно застонало, стучась в твою ладонь.
– И хо…чу… чтобы… мы…
Ладонь в шрамах зажала мне рот – нежно, но крепко.
* * *
Вид твоего тела, что поддаётся моим ласкам, купает мозг в душных волнах грубой страсти. И я уже не удивляюсь тому, сколько чувств ты способна во мне вызывать.
Гибкая спина, что прижимается к моей груди… Покорно открытая поцелуям шея…
Твоя грудь словно состоит из голых нервов.
Если бы я был терпеливее, я бы часами ласкал только её.
Ты вздрагиваешь, облизываешь губы и умоляюще трёшься бёдрами о мой живот. Упрямо шепчешь слова стихотворения и глухо постанываешь.
Я помню его; помню. И боюсь слышать последнюю строчку.
Уступив этому страху, я зажимаю ладонью твой рот. Ты смыкаешь зубы на моих пальцах и снова стонешь – приглушённо и томно.
Плавно и податливо.
Я всё ещё разодран, Вера, видишь? Всё ещё разодран на две части.
Одна часть слепо предана тебе и почти не держит оборону.
А вторая часть боится обнимать тебя при них и отчаянно закрашивает воспоминания.
…Нет, ничего этого не было.
Злясь на себя, я приподнимаю твоё бедро, медленно сдвигаю в сторону бельё и вхожу в тебя; из губ под моей ладонью плывёт протяжный стон.
Нет, не было никакого пари. Я всё придумал.
Тело заливает горячим удовольствием; поразительно. Утром. Ведь только утром.
Мне категорически мало тебя; катастрофически недостаточно.
Кровь кипит, но я замираю и неспешно касаюсь языком твоей вибрирующей от стонов шеи. Глухо охнув, ты потираешь бёдра друг о друга, и я снимаю ладонь с твоего рта.
Я хочу слышать твой голос; приглушённый; низкий; с переливчатой хрипотцой.
– Нет, – шепчешь ты, запрокинув голову. – Не замир… Хочешь, чтобы я… умоляла…
Да. Чтобы не начать умолять самому.
Одно движение в тебя. Неторопливо; осторожно и глубоко.
Второе движение… Третье.
Я удерживаю тебя ладонью за шею и жадно рассматриваю твоё лицо. Я вижу его лишь искоса; вижу лишь с одной стороны – но не могу не смотреть.
Если бы ты знала, какое оно, когда ты меня хочешь. Если бы знала.
Ты округляешь рот и кусаешь нижнюю губу.
И я не понимаю, как мог столько времени быть неподвижным.
Тело наполняет рычащее удовольствие, и я наращиваю ритм, облизывая твои губы.
Ты божественный художник, Вера.
Ты рисуешь чёрным графитом – но как же виртуозно ты смешиваешь краски.
Как умело ты переплетаешь во мне бережную ласку и адскую похоть.
Запустив руку под треугольник твоих трусиков, я касаюсь горячей мокрой кожи. Ты закатываешь глаза; твои бёдра нащупывают мой ритм, а тихие стоны смелеют.
…Только запрещай мне замирать. Только умоляй меня двигаться.
Глотать твои стоны и не стыдиться своих.
Нет, не договаривай это стихотворение. Не говори больше ничего.
Не говори больше ничего, потому что это ты победила.
* * *
Город улыбнулся, посмотрел на бирюзовую точку в своей руке, ласково подышал на эту точку, пролистнул несколько страниц Хроник и остановился на светло-зелёной.
– Пора встречать весну, – негромко проговорил он. – В этом году она будет ранней.